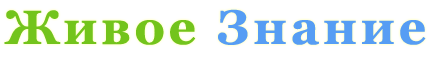Практика сексуального кун-фу
Внутренняя практика сексуального кун-фу
Техника одиночного самосовершенствования по системе Бэй-пай.
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=20
Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Модератор: просто Соня
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Закончу всю тему (за которую все нагоняи еще впереди) выписками из двух - наиболее и наименее известных - книг Грея:
"Мужчины с Марса, женщины с Венеры"
и
"Марс и Венера в спальне "
"Мужчины с Марса, женщины с Венеры"
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_mujchin ... veneri.htm
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
"Мужчины с Марса, женщины с Венеры"
и
"Марс и Венера в спальне "
"Мужчины с Марса, женщины с Венеры"
"Мужчины с Марса, женщины с Венеры" - один из величайших бестселлеров нашего времени. Это книга, изменившая к лучшему судьбы великого множества людей.
Большинство проблем в отношениях мужчины и женщины возникают потому, что мы действительно разные. И не просто разные люди - мы с разных планет. Наш подход к большинству вопросов отличается настолько, что для настоящего взаимопонимания необходим особый общий язык. И эта книга поможет каждому и каждой этот язык найти и освоить. А когда мы его выучим, исчезнет большинство причин быть несчастливыми в любви, в семье, в деловых отношениях.
Книга предназначена для всех мужчин и женщин старше 16 лет.
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_mujchin ... veneri.htm
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
"Марс и Венера в спальне"
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_mars-i- ... osteli.htm
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Он хочет секса. Она жаждет романтики. Порой кажется, будто они с разных планет. Он - с Марса, она - с Венеры. Только узнав и признав это, удастся достичь подлинной интимности и гармонии в сексе.
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_mars-i- ... osteli.htm
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Гостиная Григория Померанца
Свобода и любовь
Тема сегодняшней лекции: свобода и любовь.
В нашей культуре свобода и любовь связаны как близнецы. Надо сказать, что это не общий закон. Скажем, в культуре Дальнего Востока скорее можно говорить о долге и любви. И центральным случаем любви на Дальнем Востоке является любовь детей к своим родителям. Разумеется, это и у нас никак не отрицается. Но важен акцент. И вот акцент отличает разные культуры друг от друга.
Во Вьетнаме, который с широкой точки зрения является страной китайской культуры, так же, как Корея, Япония... там в 19 веке была очень популярна поэма. Сюжет ее такой: юноша и девушка любят друг друга, но отец девушки как-то просчитался с казенными суммами, его надо выкупить из долговой тюрьмы, и девушка продает себя в публичный дом, чтобы выкупить отца; она и ее возлюбленный страдают, но она выполнила свой долг дочерней любви.
Представить себе такую поэму в Европе совершенно немыслимо, а во Вьетнаме это классическое произведение, вроде «Евгения Онегина»…Так что, во всяком случае, есть не только свобода любви – есть долг любви. Если представить себе семью, в которой родители воспитывают дефективного ребенка, не отдавая его в специальное заведение, то вряд ли это свободный выбор. Это, скорее, принятие судьбы, чувство долга, и в то же время – долга любви.
Любовь – всегда привязанность, временами – до рабства. Человек, не имеющий привязанностей – это либо мудрец, который, собственно, привязан, но к самой сердцевине бытия, всегда открыт. Но это очень редкий случай. Или это человек, который совершенно не чувствует себя свободным. Он чувствует себя заброшенным. Для него весь мир – тюрьма, и Дания – один из лучших застенков, как выразился Гамлет. Такой человек чувствует себя, скорее как в тюрьме. Как Ставрогин в последние месяцы своей жизни думал о том, чтобы забраться куда-нибудь в Швейцарию, в какое-нибудь темное ущелье и там провести остаток жизни. Но кончилось тем, что даже это показалось ему какой-то внутренней фальшью, и он покончил с собой.
У Зинаиды Александровны есть такое стихотворение:
Я Божий раб, и нет раба покорней,
А вы свободны, и гордитесь вы
Свободой веток от ствола и корня,
Свободой плеч от тяжкой головы.
Любовь – это чувство привязанности, и в то же время она ощущается как свобода. Почему? Очевидно, она открывает какую-то новую ступень свободы, которую мы раньше недостаточно замечали, недостаточно чувствовали. Есть много ступеней свободы. Если рассмотреть это в рамках физического мира, – вагон может двигаться назад и вперед. Автомашина может двигаться во все стороны на плоскости. Птицы или вертолет могут взлетать. Есть еще какая-то степень свободы – восхождение к Духу. Метафору этому Гумилев нашел в стихотворении, которое мне напомнил один из наших слушателей:
Мы знали, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни…
Оно кончается словами: "безмолвно подымаясь в вышину неисчислимых тысячелетий". Дерево не имеет тех степеней свободы, которое имеет животное. Оно не умеет бегать взад-вперед. Но зато оно неуклонно движется вверх. И в иных случаях, когда человек внезапно ограничен в своих движениях вправо-влево, начинается то движение вверх, то духовное движение, которое обычно, захваченный мелкими впечатлениями, человек упускает из виду.
Биологически любовь возникает в период брачных игр. Вы, наверное, видели, как белки гоняются друг за другом, как птицы перекликаются друг с другом. Это задумано природой для того, чтобы разомкнуть особь, замкнутую на самой себе, и сделать ее способной к тому, чтобы образовать молекулу-семью. Это нужно для воспитания детенышей. Но в тот период, когда особь разомкнута, раскрылась, даже особь птицы, она ликует и поет не только потому, что предстоит вить гнезда. Птица ликует и поет потому, что она раскрылась всему бытию. И если бы соловья можно было спросить, что он чувствует, то он, вероятно, ответил чем-то вроде песенки Клерхен из трагедии Гете “Эгмонт”: “ Быть полным радости, страдания и мысли..." А кончается это: "Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает, лишь любя". Вот это неожиданное сочетание – ликование, связанное со страданием, – оно показывает, что не только рамки интересов особи разомкнуты в любви, но и разомкнуты отдельные чувства. Как правило, мы различаем: радость – это одно, а страдание – это совсем другое. Но не только Гете, но и Блок в замечательной песне Гаэтана повторяет: радость-страданье. Именно: "радость-страданье" через черточку. Не то, что удовольствие от страдания, а выход на какой-то уровень чувства, когда становишься всецелым и объемлешь мир во всей полноте, одновременная открытость и великим страданиям и великим радостям.
Надо сказать, что чувство любви здесь шире мифологии. Мифология нам рисует или блаженных смеющихся богов или богов страдающих. А в напряжении чувства человек выходит за рамки этого различия. Он одновременно совершенно открыт страданию, состраданию, сочувствию и ликует от переполняющего его обилия жизни.
Я думаю, что в этой связи можно понять и спор, что такое игра в терминах мифологии. Мартин Бубер, вспоминая мифологическую концепцию Индии, концепцию лилы – игры (мир как игра Бога) – возражает, что мир не игра, а судьба Бога. По-моему, верно и то, и другое. Это одновременно и игра, и судьба. Одновременно и радостная игра, и бесконечное страдание. И когда Экхарт говорит, что «игра идет в природе Отца; зрелище и зрители суть одно», он вовсе не предполагает, что это веселая игра, и даже – что это просто веселие духа. Эта игра иногда полна страдания. И вместе с тем, как в тех случаях, когда мы созерцаем трагедию или слушаем Реквием, это вовсе не игра. И как верно написал пастор Рубанис, наш современник, довольно молодой пастор из Риги, литургия – это тоже игра. Это игра – в смерть и воскресение. И все это, как сказал Гете, постигает "душа лишь любя".
Разумеется, любовь, – я говорю то, о чем говорил в начале, сравнивая нашу культуру с китайской, – любовь не жестко привязана к половой любви между мужчиной и женщиной, даже у животных. В конце концов, собачья привязанность к своему хозяину – своего рода тоже любовь. Тем более, у людей. Наверное, у каждого из вас есть примеры глубокой любви, привязывающей человека к ребенку, к учителю. Это чувство в какой-то мере ограничивает нашу свободу, и в то же время, я повторяю, потому что это очень важно, – дает новое направление, новую степень свободы. Казалось бы, если только и свету, что в ее окошечке, что в его окошечке, то человек попадает в рабство к своему чувству, но почему же он ликует? Это же не обманчивое ликование, не обман, не иллюзия. Иллюзия в том, что свет только в этом окошечке. Но не иллюзия в том, что через это окошечко проливается какой-то вечный свет. Более того, как мы уже говорили на прошлых лекциях, в самой любви есть что-то, переходящее в религиозное чувство. До боготворения. Не помню, вспоминал ли я слова из романа Стендаля, слова мадам де Реналь, что она испытывает к Жюльену Сорелю то, что она обязана испытывать к Богу: благоговение, любовь, страх. Тут есть опасность кумиротворения. Есть опасность привязанности, которая толкает на безнравственные поступки. Но в истинном своем аспекте – это раскрытие другого как иконы. Человек человеку может стать иконой. Человек в человеке раскрывает образ и подобие Бога, который в нем скрыт обычно, но который может быть увиден глазом любви. Собственно, любовь может быть даже определена как раскрытие в другом (другой) образа и подобия Бога, иконы. И поэтому высокое чувство любви всегда перекликается с чувством религиозным. Те, кто знают стихи Зинаиды Александровны Миркиной, этому не удивятся, потому что ее стихи... Иногда трудно определить, о чем они. Потому что стихи, обращенные к Богу, не отличаются от стихов любовных, а стихи о любви – это стихи о созерцании вечности, только созерцании вдвоем. Вот несколько ее стихотворений, которые случайно подвернулись под руку:
Мы с тобой молились как деревья –
Без молитв, дыханием одним.
Всем своим безмолвным устремленьем,
всем единством стихнувшим своим.
Приближались меркнущие дали,
Лес светлел в преддверьи полной тьмы.
Мы с тобой молитв тогда не знали,
Но самой молитвой были мы.
Вот другое:
Нас обвенчала тишина
В свой сокровенный час.
В обоих нас вошла она
Одна – в обоих нас.
Мы ею до краев полны,
И нам с тобой дано
Не расплескавши тишины,
Понять, что мы – одно.
Это очень важная строка – "не расплескавши тишины"… То, о чем не пишут наши сексологи. Ну, еще стихотворение:
Такой пробел между тобой и мной,
Так пусто, ясно, высоко и глухо.
Ничто не станет на пути стеной.
Такое море веющего Духа.
Вот только кликни, и со всех сторон,
– Ведь невозможна ни одна помеха, –
Достигнет сердца чистый звездный звон
И отзовется троекратным эхом.
И ни единой мысли не дано
Смутить, рассечь простор ширококрылый.
И потому лишь мы с тобой одно,
Что бесконечность нас соединила.
И даже в стихотворениях, если можно сказать, сюжет которых может быть назван любовным, все равно никогда не покидает тема бесконечности, тема прикосновения к вечности.
И вот упали все преграды,
Что были меж тобой и мной.
Уже не близко, нет не рядом,
Мы просто сделались одной
Душой и плотью. И весь воздух
Вдруг выпит за один глоток.
Прожгли всю ткнать пространства звезды,
И в щели мира глянул Бог.
Как правило, любовь теряется тогда, когда теряется это вечное ее измерение, когда "расплескивается тишина".
В таком парадоксальном выражении, которое я здесь приводил, "раб Божий", заключена мысль о том новом глубинном измерении бытия, которое обычно человек не замечает и проходит мимо. А между тем, человек, не чувствующий этого, лишен целого измерения бытия. Меня поразила эта мысль у Антония Блюма, который написал, что тот, кто не знает молитвы, тот лишен целого измерения бытия. А молитва – это есть, в сущности, любовное обращение к Богу. Один из архиереев прошлого, кажется, Брянчанинов, говорил, что человек, который идет в монахи, должен иметь роман с Богом. И я думаю, что сквозь обычный роман тоже сквозит Божий свет, только не сквозь икону, а сквозь человека, в котором любовь открывает икону. В любви люди находят икону друг в друге. И привязанность к иконе глубины не противоречит свободе, наоборот, она открывает огромную свободу. Я позволю себе напомнить два евангельских суждения, которые, казалось бы, противоречат друг другу: "творю волю пославшего меня", – значит, человек все делает не от себя; а, с другой стороны, "сказано древним, а я говорю вам". То, что сказано древним Моисеем, считалось Божьей заповедью, голосом Бога. Но полная привязанность к Святому Духу дает полную свободу по отношению ко всем прежним следам прикосновения Духа, ко всем тем словам, в которых отпечатались откровения прошлого.
Само чувство Бога, если оно полно, чувство вечности дает масштабы, которыми можно измерить непосредственно любую ситуацию гораздо более точно, чем приложением к жизни обычных рамок заповедей, законов и т.д. Поэтому было сказано Августином: "Полюби Бога и делай, что хочешь". Потому что непосредственное чувство вечности дает такой масштаб, такой эталон, сравнительно с которым на просвет сразу обнаруживают себя достоинства каждой ситуации, каждого поступка. И ясно, что почем.
Этот масштаб внутренний делает свободным от порабощения страстями, от озабоченности всякого рода суетой, помыслами – и чувственными, и социальными. Всеми грехами, которые Розанов называл сухими и мокрыми.
Что же такое свобода? Свобода выбора? И да, и нет. Представим себе человека в аду. Для него свобода – это возможность выбраться из ада. Свобода – это, значит, что-то другое, чем ад. Но если представить себе, наоборот, человека в раю. Тогда свобода избрать другое значит самого себя изгнать из рая. Свобода в раю – отказ от выбора, это вечность одного выбора, одной любви. Свобода в раю – это свобода верности. Можно говорить о свободе выбора и можно говорить о свободе верности. Я думаю, любовь сохраняет свободу верности. Разрушает ее инерция свободы выбора.
Потеряв это измерение молитвы, созерцания вечности, человек попадает в рабство мелких желаний. Своих собственных. Но что есть "я"? С одной стороны, я хочу дать человеку, который нагрубил мне, по физиономии. И я же сознаю, что так поступать не надо и ограничиваю себя. Значит, во мне не одно "я". Во мне их несколько. И свобода одного "я" есть скованность другого.
Апостол Павел говорил о противоречии внешнего и внутреннего человека. В послании к римлянам он блестяще рисует психологию существа, который хотел быть духовно совершенным, но то, что Павел называет плотью (в широком смысле: вся совокупность мелких желаний, порывов) увлечет его в сторону духовной смерти. Свободный человек – это внутренний человек, владеющий внешним, повелевающий внешним, ограничивающий его, чтобы сохранить свою свободу. Это человек, отличающий любовь от прихоти и не позволяющий прихотям разрушать любовь. Не обязательно отсекающий прихоти, как аскеты, но держащий свои прихоти на поводке. Без этого поводка, без внутренней узды, удерживающей прихоти, раб своих страстей – все равно, что камень, брошенный из пращи. Страсть дала ему толчок, и он летит, но этот полет кончится падением, и без нового толчка камень останется лежать в пыли. Только внутренний человек способен взлетать и взлетать на крыльях духа.
Гостиная Григория Померанца
Свобода и любовь
Тема сегодняшней лекции: свобода и любовь.
В нашей культуре свобода и любовь связаны как близнецы. Надо сказать, что это не общий закон. Скажем, в культуре Дальнего Востока скорее можно говорить о долге и любви. И центральным случаем любви на Дальнем Востоке является любовь детей к своим родителям. Разумеется, это и у нас никак не отрицается. Но важен акцент. И вот акцент отличает разные культуры друг от друга.
Во Вьетнаме, который с широкой точки зрения является страной китайской культуры, так же, как Корея, Япония... там в 19 веке была очень популярна поэма. Сюжет ее такой: юноша и девушка любят друг друга, но отец девушки как-то просчитался с казенными суммами, его надо выкупить из долговой тюрьмы, и девушка продает себя в публичный дом, чтобы выкупить отца; она и ее возлюбленный страдают, но она выполнила свой долг дочерней любви.
Представить себе такую поэму в Европе совершенно немыслимо, а во Вьетнаме это классическое произведение, вроде «Евгения Онегина»…Так что, во всяком случае, есть не только свобода любви – есть долг любви. Если представить себе семью, в которой родители воспитывают дефективного ребенка, не отдавая его в специальное заведение, то вряд ли это свободный выбор. Это, скорее, принятие судьбы, чувство долга, и в то же время – долга любви.
Любовь – всегда привязанность, временами – до рабства. Человек, не имеющий привязанностей – это либо мудрец, который, собственно, привязан, но к самой сердцевине бытия, всегда открыт. Но это очень редкий случай. Или это человек, который совершенно не чувствует себя свободным. Он чувствует себя заброшенным. Для него весь мир – тюрьма, и Дания – один из лучших застенков, как выразился Гамлет. Такой человек чувствует себя, скорее как в тюрьме. Как Ставрогин в последние месяцы своей жизни думал о том, чтобы забраться куда-нибудь в Швейцарию, в какое-нибудь темное ущелье и там провести остаток жизни. Но кончилось тем, что даже это показалось ему какой-то внутренней фальшью, и он покончил с собой.
У Зинаиды Александровны есть такое стихотворение:
Я Божий раб, и нет раба покорней,
А вы свободны, и гордитесь вы
Свободой веток от ствола и корня,
Свободой плеч от тяжкой головы.
Любовь – это чувство привязанности, и в то же время она ощущается как свобода. Почему? Очевидно, она открывает какую-то новую ступень свободы, которую мы раньше недостаточно замечали, недостаточно чувствовали. Есть много ступеней свободы. Если рассмотреть это в рамках физического мира, – вагон может двигаться назад и вперед. Автомашина может двигаться во все стороны на плоскости. Птицы или вертолет могут взлетать. Есть еще какая-то степень свободы – восхождение к Духу. Метафору этому Гумилев нашел в стихотворении, которое мне напомнил один из наших слушателей:
Мы знали, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни…
Оно кончается словами: "безмолвно подымаясь в вышину неисчислимых тысячелетий". Дерево не имеет тех степеней свободы, которое имеет животное. Оно не умеет бегать взад-вперед. Но зато оно неуклонно движется вверх. И в иных случаях, когда человек внезапно ограничен в своих движениях вправо-влево, начинается то движение вверх, то духовное движение, которое обычно, захваченный мелкими впечатлениями, человек упускает из виду.
Биологически любовь возникает в период брачных игр. Вы, наверное, видели, как белки гоняются друг за другом, как птицы перекликаются друг с другом. Это задумано природой для того, чтобы разомкнуть особь, замкнутую на самой себе, и сделать ее способной к тому, чтобы образовать молекулу-семью. Это нужно для воспитания детенышей. Но в тот период, когда особь разомкнута, раскрылась, даже особь птицы, она ликует и поет не только потому, что предстоит вить гнезда. Птица ликует и поет потому, что она раскрылась всему бытию. И если бы соловья можно было спросить, что он чувствует, то он, вероятно, ответил чем-то вроде песенки Клерхен из трагедии Гете “Эгмонт”: “ Быть полным радости, страдания и мысли..." А кончается это: "Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает, лишь любя". Вот это неожиданное сочетание – ликование, связанное со страданием, – оно показывает, что не только рамки интересов особи разомкнуты в любви, но и разомкнуты отдельные чувства. Как правило, мы различаем: радость – это одно, а страдание – это совсем другое. Но не только Гете, но и Блок в замечательной песне Гаэтана повторяет: радость-страданье. Именно: "радость-страданье" через черточку. Не то, что удовольствие от страдания, а выход на какой-то уровень чувства, когда становишься всецелым и объемлешь мир во всей полноте, одновременная открытость и великим страданиям и великим радостям.
Надо сказать, что чувство любви здесь шире мифологии. Мифология нам рисует или блаженных смеющихся богов или богов страдающих. А в напряжении чувства человек выходит за рамки этого различия. Он одновременно совершенно открыт страданию, состраданию, сочувствию и ликует от переполняющего его обилия жизни.
Я думаю, что в этой связи можно понять и спор, что такое игра в терминах мифологии. Мартин Бубер, вспоминая мифологическую концепцию Индии, концепцию лилы – игры (мир как игра Бога) – возражает, что мир не игра, а судьба Бога. По-моему, верно и то, и другое. Это одновременно и игра, и судьба. Одновременно и радостная игра, и бесконечное страдание. И когда Экхарт говорит, что «игра идет в природе Отца; зрелище и зрители суть одно», он вовсе не предполагает, что это веселая игра, и даже – что это просто веселие духа. Эта игра иногда полна страдания. И вместе с тем, как в тех случаях, когда мы созерцаем трагедию или слушаем Реквием, это вовсе не игра. И как верно написал пастор Рубанис, наш современник, довольно молодой пастор из Риги, литургия – это тоже игра. Это игра – в смерть и воскресение. И все это, как сказал Гете, постигает "душа лишь любя".
Разумеется, любовь, – я говорю то, о чем говорил в начале, сравнивая нашу культуру с китайской, – любовь не жестко привязана к половой любви между мужчиной и женщиной, даже у животных. В конце концов, собачья привязанность к своему хозяину – своего рода тоже любовь. Тем более, у людей. Наверное, у каждого из вас есть примеры глубокой любви, привязывающей человека к ребенку, к учителю. Это чувство в какой-то мере ограничивает нашу свободу, и в то же время, я повторяю, потому что это очень важно, – дает новое направление, новую степень свободы. Казалось бы, если только и свету, что в ее окошечке, что в его окошечке, то человек попадает в рабство к своему чувству, но почему же он ликует? Это же не обманчивое ликование, не обман, не иллюзия. Иллюзия в том, что свет только в этом окошечке. Но не иллюзия в том, что через это окошечко проливается какой-то вечный свет. Более того, как мы уже говорили на прошлых лекциях, в самой любви есть что-то, переходящее в религиозное чувство. До боготворения. Не помню, вспоминал ли я слова из романа Стендаля, слова мадам де Реналь, что она испытывает к Жюльену Сорелю то, что она обязана испытывать к Богу: благоговение, любовь, страх. Тут есть опасность кумиротворения. Есть опасность привязанности, которая толкает на безнравственные поступки. Но в истинном своем аспекте – это раскрытие другого как иконы. Человек человеку может стать иконой. Человек в человеке раскрывает образ и подобие Бога, который в нем скрыт обычно, но который может быть увиден глазом любви. Собственно, любовь может быть даже определена как раскрытие в другом (другой) образа и подобия Бога, иконы. И поэтому высокое чувство любви всегда перекликается с чувством религиозным. Те, кто знают стихи Зинаиды Александровны Миркиной, этому не удивятся, потому что ее стихи... Иногда трудно определить, о чем они. Потому что стихи, обращенные к Богу, не отличаются от стихов любовных, а стихи о любви – это стихи о созерцании вечности, только созерцании вдвоем. Вот несколько ее стихотворений, которые случайно подвернулись под руку:
Мы с тобой молились как деревья –
Без молитв, дыханием одним.
Всем своим безмолвным устремленьем,
всем единством стихнувшим своим.
Приближались меркнущие дали,
Лес светлел в преддверьи полной тьмы.
Мы с тобой молитв тогда не знали,
Но самой молитвой были мы.
Вот другое:
Нас обвенчала тишина
В свой сокровенный час.
В обоих нас вошла она
Одна – в обоих нас.
Мы ею до краев полны,
И нам с тобой дано
Не расплескавши тишины,
Понять, что мы – одно.
Это очень важная строка – "не расплескавши тишины"… То, о чем не пишут наши сексологи. Ну, еще стихотворение:
Такой пробел между тобой и мной,
Так пусто, ясно, высоко и глухо.
Ничто не станет на пути стеной.
Такое море веющего Духа.
Вот только кликни, и со всех сторон,
– Ведь невозможна ни одна помеха, –
Достигнет сердца чистый звездный звон
И отзовется троекратным эхом.
И ни единой мысли не дано
Смутить, рассечь простор ширококрылый.
И потому лишь мы с тобой одно,
Что бесконечность нас соединила.
И даже в стихотворениях, если можно сказать, сюжет которых может быть назван любовным, все равно никогда не покидает тема бесконечности, тема прикосновения к вечности.
И вот упали все преграды,
Что были меж тобой и мной.
Уже не близко, нет не рядом,
Мы просто сделались одной
Душой и плотью. И весь воздух
Вдруг выпит за один глоток.
Прожгли всю ткнать пространства звезды,
И в щели мира глянул Бог.
Как правило, любовь теряется тогда, когда теряется это вечное ее измерение, когда "расплескивается тишина".
В таком парадоксальном выражении, которое я здесь приводил, "раб Божий", заключена мысль о том новом глубинном измерении бытия, которое обычно человек не замечает и проходит мимо. А между тем, человек, не чувствующий этого, лишен целого измерения бытия. Меня поразила эта мысль у Антония Блюма, который написал, что тот, кто не знает молитвы, тот лишен целого измерения бытия. А молитва – это есть, в сущности, любовное обращение к Богу. Один из архиереев прошлого, кажется, Брянчанинов, говорил, что человек, который идет в монахи, должен иметь роман с Богом. И я думаю, что сквозь обычный роман тоже сквозит Божий свет, только не сквозь икону, а сквозь человека, в котором любовь открывает икону. В любви люди находят икону друг в друге. И привязанность к иконе глубины не противоречит свободе, наоборот, она открывает огромную свободу. Я позволю себе напомнить два евангельских суждения, которые, казалось бы, противоречат друг другу: "творю волю пославшего меня", – значит, человек все делает не от себя; а, с другой стороны, "сказано древним, а я говорю вам". То, что сказано древним Моисеем, считалось Божьей заповедью, голосом Бога. Но полная привязанность к Святому Духу дает полную свободу по отношению ко всем прежним следам прикосновения Духа, ко всем тем словам, в которых отпечатались откровения прошлого.
Само чувство Бога, если оно полно, чувство вечности дает масштабы, которыми можно измерить непосредственно любую ситуацию гораздо более точно, чем приложением к жизни обычных рамок заповедей, законов и т.д. Поэтому было сказано Августином: "Полюби Бога и делай, что хочешь". Потому что непосредственное чувство вечности дает такой масштаб, такой эталон, сравнительно с которым на просвет сразу обнаруживают себя достоинства каждой ситуации, каждого поступка. И ясно, что почем.
Этот масштаб внутренний делает свободным от порабощения страстями, от озабоченности всякого рода суетой, помыслами – и чувственными, и социальными. Всеми грехами, которые Розанов называл сухими и мокрыми.
Что же такое свобода? Свобода выбора? И да, и нет. Представим себе человека в аду. Для него свобода – это возможность выбраться из ада. Свобода – это, значит, что-то другое, чем ад. Но если представить себе, наоборот, человека в раю. Тогда свобода избрать другое значит самого себя изгнать из рая. Свобода в раю – отказ от выбора, это вечность одного выбора, одной любви. Свобода в раю – это свобода верности. Можно говорить о свободе выбора и можно говорить о свободе верности. Я думаю, любовь сохраняет свободу верности. Разрушает ее инерция свободы выбора.
Потеряв это измерение молитвы, созерцания вечности, человек попадает в рабство мелких желаний. Своих собственных. Но что есть "я"? С одной стороны, я хочу дать человеку, который нагрубил мне, по физиономии. И я же сознаю, что так поступать не надо и ограничиваю себя. Значит, во мне не одно "я". Во мне их несколько. И свобода одного "я" есть скованность другого.
Апостол Павел говорил о противоречии внешнего и внутреннего человека. В послании к римлянам он блестяще рисует психологию существа, который хотел быть духовно совершенным, но то, что Павел называет плотью (в широком смысле: вся совокупность мелких желаний, порывов) увлечет его в сторону духовной смерти. Свободный человек – это внутренний человек, владеющий внешним, повелевающий внешним, ограничивающий его, чтобы сохранить свою свободу. Это человек, отличающий любовь от прихоти и не позволяющий прихотям разрушать любовь. Не обязательно отсекающий прихоти, как аскеты, но держащий свои прихоти на поводке. Без этого поводка, без внутренней узды, удерживающей прихоти, раб своих страстей – все равно, что камень, брошенный из пращи. Страсть дала ему толчок, и он летит, но этот полет кончится падением, и без нового толчка камень останется лежать в пыли. Только внутренний человек способен взлетать и взлетать на крыльях духа.
Гостиная Григория Померанца
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Мигель Руис - Мастерство любви
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_masterstvo-lyubvi.htm
Год выпуска: 2014 г.
Исполнитель: Nikosho
Тип издания: аудиокнига своими руками
Время звучания: 05:51:13
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4751629

Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_masterstvo-lyubvi.htm
Год выпуска: 2014 г.
Исполнитель: Nikosho
Тип издания: аудиокнига своими руками
Время звучания: 05:51:13
Для того чтобы достичь Бога, добиться просветления, пробудиться, ничего не нужно делать. Нет никого, кто смог бы привести тебя к Богу. И всякий, кто обещает это, просто лжец, потому что ты уже там. Остается только одно: наслаждаться жизнью, быть живым, исцелить свои эмоциональные раны и сделать свою жизнь такой, чтобы открыто делиться переполняющей тебя любовью.
Книга эта предназначена для всех, кто хочет изменить к лучшему свои отношения с близкими, с собой, с Богом. А значит — для всех.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4751629

Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Сексуальная сила или крылатый дракон - Омраам Микаэль Айванхов
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_seksual ... drakon.htm

Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Книга рассказывает о символе инстинктивных сил человека -драконе. Если этот монстр с хвостом змеи обладает также крыльями, то это доказывает, что силы, которые он воплощает, имеют и духовное назначение.
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_seksual ... drakon.htm

Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Зачем поет птица - Энтони де Мелло
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_zachem-poet-ptica.htm

Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Все мы любим разные истории. В этой книге вы найдете множество всевозможных историй, как древних, так и современных: буддистских, христианских, дзэнских, хасидских, русских, китайских, индуистских, суфийских.
Все они обладают особым качеством:их чтение в определенном порядке способствует вашему духовному росту.
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_zachem-poet-ptica.htm

Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-2
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Алмаз сознания - Странник
От себя: Энциклопедия демотиваторов для христианского пропагандиста. (Бесценное пособие для всех, желающих доказать себе и другим преимущества христианства над всеми прочими направлениями духовной практики.)
Написано интересно, поэтично. Объективной познавательной ценности не имеет.
Для самых глазастых: сил и времени переформатировать (то есть - все перепечатывать) никак не хватает.
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-3
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
От себя: Энциклопедия демотиваторов для христианского пропагандиста. (Бесценное пособие для всех, желающих доказать себе и другим преимущества христианства над всеми прочими направлениями духовной практики.)
Написано интересно, поэтично. Объективной познавательной ценности не имеет.
Для самых глазастых: сил и времени переформатировать (то есть - все перепечатывать) никак не хватает.
Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения».)
http://forum.arimoya.info/threads/%D0%A ... 690/page-3
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4 ... c&start=30
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
Будда и любовь. Как любить и быть счастливым - Оле Нидал
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_budda-i- ... tlivim.htm

Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения.
http://forum.arimoya.info/threads/Энтони-де-Мелло-Свобода-и-Любовь.1690/page-3
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4833&start=30
Любовь в отношениях мужчины и женщины рассматривается в буддизме как основа для личного роста и полноты жизни. Лама Оле Нидал объясняет, как Будда рекомендовал строить отношения, чтобы двое, а также и люди вокруг них, жили счастливо.
Полностью - тут:
https://naturalworld.guru/kniga_budda-i- ... tlivim.htm

Следуя изменению в правилах и в целях облегчения работы форума, ряд постов заменяется ссылками на другие ресурсы, где они доступны для чтения.
http://forum.arimoya.info/threads/Энтони-де-Мелло-Свобода-и-Любовь.1690/page-3
http://forum.4oru.org/viewtopic.php?t=4833&start=30
Последний раз редактировалось просто Соня 16 авг 2017, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Энтони де Мелло - Свобода и Любовь
об этих выписках
Обнародование сделанных за несколько лет выписок из прочитанного имеет несколько целей
- позволить участникам форума быстро ознакомиться с возможно ранее неизвестными им авторами и книгами. Представив нечто более обширное, чем аннотация, но гораздо более краткое, чем полный текст книги - малую часть, всего лишь несколько его %%
Такое подобие службы интеллектуальных и духовных знакомств, где кто-то может встретить среди авторов свою "духовную половинку" или просто интересные и близкие по духу тексты.
В таком случае можно обратиться к их оригиналу, на который я всегда указываю.
И наоборот: быстро понять, какую литературу читать не стоит.
И то и другое в таких темах можно обсудить с другими участниками форума.
- расширить круг обсуждаемых тем и идей на форуме. Сделав представляемых авторов его условными участниками.
- благодаря большому количеству новых гуглимых имен и терминов в этих выписках привлечь к форуму больший интерес и новых участников и вообще повысить его рейтинг
- выбираемые мной куски (для дальнейшего перечитывания, работы и практики) самим фактом выбора отражают меня как личность и уже потому являются формой форумского общения
- в этих темах участники обсуждают не только книги, их авторов и сами выписки, но и делятся другими своими соображениями и опытом
- для многих эти выписки имеют самостоятельную ценность как наиболее практическая и стимулирующая к дальнейшей работе над собой часть книги
Обнародование сделанных за несколько лет выписок из прочитанного имеет несколько целей
- позволить участникам форума быстро ознакомиться с возможно ранее неизвестными им авторами и книгами. Представив нечто более обширное, чем аннотация, но гораздо более краткое, чем полный текст книги - малую часть, всего лишь несколько его %%
Такое подобие службы интеллектуальных и духовных знакомств, где кто-то может встретить среди авторов свою "духовную половинку" или просто интересные и близкие по духу тексты.
В таком случае можно обратиться к их оригиналу, на который я всегда указываю.
И наоборот: быстро понять, какую литературу читать не стоит.
И то и другое в таких темах можно обсудить с другими участниками форума.
- расширить круг обсуждаемых тем и идей на форуме. Сделав представляемых авторов его условными участниками.
- благодаря большому количеству новых гуглимых имен и терминов в этих выписках привлечь к форуму больший интерес и новых участников и вообще повысить его рейтинг
- выбираемые мной куски (для дальнейшего перечитывания, работы и практики) самим фактом выбора отражают меня как личность и уже потому являются формой форумского общения
- в этих темах участники обсуждают не только книги, их авторов и сами выписки, но и делятся другими своими соображениями и опытом
- для многих эти выписки имеют самостоятельную ценность как наиболее практическая и стимулирующая к дальнейшей работе над собой часть книги
Не важно, что написано. Важно, как понято.