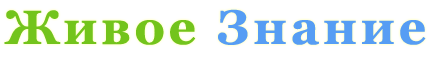Околосмертный опыт и Вечность: мнение прагматика
Будет весьма интересно соединить этот анализ неразделимости времени и сознания с нашим общим когнитивно-феноменологическим подходом к презентативным состояниям и применить его к современному увлечению сообщениями об околосмертном опыте.
С одной стороны общность переживаний, описываемых некоторыми людьми, оказавшимися на пороге смерти или воскрешенными после клинической смерти, которая зачастую не зависит от их предшествующих религиозных верований, была кое-кем воспринята как эмпирическое свидетельство или даже доказательство буквальной жизни после смерти. С другой стороны, как утверждает более традиционная психиатрическая точка зрения, здесь мы имеем свидетельство того, что те, кто склонен к наибольшей поглощенности воображением — умирают в психотическом галлюцинаторном состоянии. Обе эти точки зрения представляются несколько натянутыми и крайне нуждаются в более когнитивном и феноменологическом опосредовании.
Что касается объяснений, предпочитаемых различными спиритуалистскими традициями, то я уже цитировал общеизвестное суждение Джемса, что никакое эмпирическое состояние само по себе не может быть подтверждением объективности или истинности убеждения. Мы не только знаем об околосмертном опыте лишь от тех, кто не умер, сколь бы физиологически «пассивными» они ни были в течение какого-то времени, но и все основные элементы, содержащиеся в их описаниях, могут проявляться также в естественных состояниях, создаваемых гипнагогическим периодом начала сна и глубокой медитации. Так, выход из тела и сопутствующие телесные преобразования, переживания света и блаженства, путешествие через туннель, встречи с духовными проводниками, громкие грохочущие звуки (вероятно, вызванные внезапными судорогами мышц среднего уха), и обзор жизни в форме сверхбыстрых мерцаний образов составляют обычную часть отчетов об этих других измененных состояниях сознания. Даже приводимые Муди описания приближения непосредственно перед воскрешением к некоторой границе — например, воображаемому полю, или дороге, или потоку — можно найти в отчетах о функциональном аутосимволизме в форме само-изображений изменения состояния организма непосредственно перед пробуждением от обычного сна.
Кеннет Ринг, исследовавший основные элементы современных отчетов и их относительные частоты, обнаружил, что они охватывают диапазон от чувства мира и приятия, о котором сообщали 60% опрошенных, описывавших то или иное ретроспективное осознание, до выхода из тела, вхождения в тоннель, видения какого-либо света и вхождения в свет — которое встречается реже всего, в 10% случаев. (Вхождение в свет, судя по всему, редко означает слияние со светом или растворение в нем, как в описаниях некоторых состояний, вызванных глубокой медитацией, а скорее соответствует вхождению в область, ощущаемую в качестве священной, например, в небесный град или воображаемый храм).
Хотя 40% всех опрошенных пациентов, переживших близость смерти, сообщают по крайней мере о некоторых из этих преобразований сознания, их опыт значимо различается в зависимости от внешних обстоятельств. Сообщения об околосмертных переживаниях, как правило, встречаются чаще, если пациент находился в бессознательном состоянии более 30 минут, и если использовались медицинские методы реанимации. Это показывает, что такой опыт более вероятен, если имеется естественная и продолжительная ситуация, предоставляющая реальное время для его развития, и если предпринимаются какие-то усилия для «испытания» такого осознания. Он также более вероятен при длительной болезни, чем при внезапных несчастных случаях. Это согласуется с той точкой зрения, что более длительное ожидание возможной смерти настраивает самосоотносительное осознание на формирование этих соответственно выразительных презентативных состояний. В описаниях околосмертного опыта после продолжительной болезни гораздо чаще встречаются упоминания о встрече со светом — опять же, как будто большее время подготовки позволяет достигать более глубокого состояния.
Мы могли бы также подумать над загадкой того, почему в большинстве сообщений об околосмертном опыте отсутствуют описания «адских» фантасмагорий, которые, как мы уже знаем, часто проявляются в опыте, вызванном большими дозами кислоты и острой
шизофренией, а напротив, делается акцент на блаженстве, приятии и сострадании.
С другой стороны, состояние, возникающее в результате острого прекращения физиологических функций, должно в конечном итоге вести к очень глубокому мышечному расслаблению и высвобождению, даже большему, чем в очень глубокой медитации. Допуская, что человек способен сохранять непрерывность сознания в таком глубоком «освобождении», конечным результатом должен стать опыт углубляющегося покоя, отрешенности и приятия — во многом подобный эффектам глубокой медитации. Тот факт, что действительное растворение в белом свете и расширение непосредственного «сейчас», превращающегося в ощущаемую вечность, как описано в классическом мистицизме, не является типичной чертой отчетов об околосмертном опыте, дает веские основания полагать, что в большинстве случаев реанимация происходит до этого этапа развития. Поэтому еще более тонкие переживания не реанимированных умирающих вполне могли бы включать в себя такое расширение сознания в открытость как таковую, с соответствующей ей ощущаемой «вечностью».
Тогда нам остается рассмотреть противоположный довод, высказывавшийся по поводу околосмертного опыта — что он отражает галлюцинаторную и в конечцом счете иллюзорную форму осознания. Когнитивно-феноменологическая точка зрения спасет нас и от этой крайности. Мы уже видели, что презентативные состояния, подобные тем, что имеют место и в классическом мистицизме, и в околосмертных переживаниях, демонстрируют основополагающие структуры абстрактного разума, проявляющиеся в презентативном образном модусе. Так, мы имеем геометрии и светлоты как метафоры всеобъемлющей тотальности, внетелесную перспективу, крайне обширную самосоотносительную способность, синтезирующую главные события жизни человека в быстрые мерцания образов.
Ситуация умирания потенциально происходят с быстротой, превосходящей нашу обычную концептуальную способность, и ставит личные и окончательные вопросы — все это способствует презентативному символизму. С когнитивной точки зрения, околосмертные переживания представляют максимально интенсивную работу нашего самосоотносительного разума в образно-интуитивном модусе — для того чтобы обрести последний взгляд на то, к чему все свелось, в своего рода ускоренном курсе метафизической/духовной мысли, применяемой к собственной жизни человека.
Ранее мы видели, как трудно было бы показать, что максимально абстрактное развитие одной из наших символических систем «иллюзорно», в то время как другие «истинны».
Возвращаясь к суждению Джемса в «Многообразии религиозного опыта», следует сказать, что мистический опыт не может доказать свою истинность для людей, которые его не разделяют, но он с необходимостью имеет личное решающее значение для тех, кто его переживает. «Факты» нашего опыта могут быть «чисто субъективными», но это, в любом случае, то, где все мы, в конечном счете, живем — в нашем текущем опыте этого мира. Все наши объективности и логичности, чтобы вообще быть известными, должны сперва чувствоваться и ощущаться. Если освобождение от умственного и мышечного напряжения при умирании вообще похоже на то, что происходит при глубокой медитации, то оно должно вести ко все более и более тонким переживаниям света и синестетического слияния с этим светом. Это переживалось бы как сострадательное «позволение» или «разрешение». Как мы уже видели, это бы с необходимостью включало в себя соответствующее преобразование нашего чувства времени с растянутыми моментами, расширяющимися в ощущаемую вечность. Это действительно своего рода «Страшный Суд», осуществляющийся в образном модусе. Когда и если он произошел, не существует ничего другого, с чем можно было бы его сравнить, чем можно было бы его уравновесить или опровергнуть. Поэтому он будет отвечать любому и всем прагматическим критериям истины.
Все это означало бы, что коль скоро вообще есть какой-либо, то на своих самых фундаментальных уровнях он должен иметь структуру открытости-сострадания-вечности. В наиболее абстрактных презентативных состояниях, основанных на синестезиях между самыми фундаментальными формами восприятия, мы будем переживать ощущаемый смысл горизонтальной открытости. Если с «объективной» точки зрения мы делаем вывод, что любое подобное переживание вечности на самом деле должно прекращаться с окончательной смертью мозга, то справедливо и то, что на уровнях бесконечно разливающейся светящейся тьмы это прекращение не будет заметно с позиции первого лица. «Последующее» будет становиться еще более открытым и вечным и сострадательным с подстройкой ко все более и более тонкому свечению.
Допустим, какой-нибудь врач будущего смог бы «засечь» действительные нейрональные проявления околосмертного опыта с помощью секундомера и заявить, что он продолжался, скажем, пять иди десять минут. Суть здесь, безусловно, состоит в том, что в подобных состояниях критерии третьего и первого лица давно разошлись и их больше нельзя осмысленно соотносить друг с другом. С точки зрения предлагаемой здесь когнитивной психологии сознания, и в любопытном согласии с разнообразными духовными традициями смерть оказывается феноменом, существующим только с позиции третьего лица. С точки зрения первого лица, особенно обостренной в презентативных состояниях, мы в действительности не можем умереть. Либо мы будем цепляться и бороться, и «впадем» в состояние, основйнное на блокировании, либо мы станем едины с вечностью. На таком этапе часы врача станут совершенно не актуальными, как они не актуальны для сходных «моментов вечности» в глубокой медитации.
Прагматически говоря, в том, что касается первичности опыта, исходя из которой должен жить каждый из нас, потенциально существует жизнь после смерти. Называть ее иллюзией, значит предполагать, что нам дано вставать вне нашего собственного бытия и разума и делать подобные суждения. В конце концов, мы либо уважаем свой основополагающий опыт этого мира, либо нет.
СОЗНАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО: ФИЗИКА, СОЗНАНИЕ И ПРИМАТ ВОСПРИЯТИЯ
Ряд исследователей по обе стороны границы раздела между теоретической физикой и сознанием обратили внимание на интригующие параллели между аспектами современной физики и восточными медитативными традициями. И веданта, и буддийская картина «единого поля», включающего в себя физическую реальность и сознание, основаны на представлении об энергиях мельчайших вибрирующих частиц.
В частности, ... усматривают возможность непосредственной настройки сознания на реалии современной физики — особенно когда дело касается состояний, вызванных глубокой медитацией. Люди, переживающие подобные состояния, зачастую явно не знакомы с понятиями современной физики, но тем не менее, описывают переживания вибрационного поля, которые кажутся согласующимися с физическими формулировками относительности пространства-времени, дополнительности и индетерминизма. Если на время признать наличие таких соответствий, следует поставить вопрос о том, каким образом мистики были бы способными познавать реалии современной физики.
Одна возможность состоит в непосредственном интуитивном восприятии сознанием космоса, обусловленным тем, что последний в каком-то смысле создается из первого. Второй возможностью может быть то, что само сознание берет свое начало на квантовом уровне реальности, так что разумность и космос имеют общую структуру. Не удивительно, что этот вариант оказался наиболее привлекательным для недавних рассуждений физиков о сознании. С одной стороны, в этом случае сознание имело бы материальную основу в повторной утилизации квантовых событий, являющихся в достаточной степени неопределенными и дополнительными, чтобы соответствовать разуму. С другой стороны, поэтому показалось соблазнительным объяснять сверхчувственное восприятие с точки зрения соединяющихся квантовых полей.
Существует и третья возможность — более умеренная и, в конечном счете, более теоретически экономная. Общей для сознания и физики может быть первичность восприятия, с необходимостью лежащая в основе обеих традиций. Тогда тем, что является общим для физиков и мистиков, равно как и всех нас, оказывается набор метафор. Поскольку метафорические паттерны, лежащие в основе символического познания, в конечном счете, происходят от перцептуального ряда, мы оказываемся перед возможностью того, что не только все мышление основывается на восприятии, но еще полностью не открытые принципы организации восприятия окружающего содержат в себе, подразумевают или отражают различные аспекты организации самой физической реальности. Именно разделяемые структуры восприятия должны возвращать и физиков, и мистиков к их общему опыту, сколь бы различно он не опосредовался и развивался. Этот «источник» должен «отражать» — с различной степенью непосредственности и ясности — физическое окружение чувствующих существ — саму физическую вселенную, которая «позволяет» нам быть.
Франкл Десять тезисов о личности
Модератор: просто Соня
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
С наиболее общепринятой точки зрения, «восприятие» всегда считалось ограничивающим принципом современной науки, который превосходят или подрывают новые реалии материальной вселенной; утверждается, что последние могут быть поняты только если мы отказываемся от предубеждений и интуиции обыденного восприятия.
Физика и сознание: метафора и колеблющаяся граница
между сознанием и миром
Я уже доказывал, что межмодально структурируемые метафоры составляют основу всего символического познания, и сами представляют собой проработки свойств восприятия. Отсюда следует, что такие метафоры должны быть двунаправленными. Во-первых, они указывают вовне. Если мы действительно можем выводить основные принципы современной физики из перцептуального строя, то все физическое знание становится расширением восприятия. Во-вторых, если мы можем познавать самих себя только посредством метафорического преобразования свойств физической реальности, тогда не только в примитивном анимизме, но и в реальностях, открываемых современной физикой, любая характеристика мира становится потенциальной метафорой для нашего собственного сознания. В соответствии с тем, что Юнг писал об алхимиках, то, что казалось неодушевленным, нечеловеческим и чуждым, внезапно отражает аспекты нашей собственной природы, которых мы до этого не осознавали. С этой точки зрения, мистицизм и физика согласуются потому, что они разрабатываются из одних и тех же структур. В каждом случае познание основывается на воссоздании все более и более фундаментальных принципов перцептуального строя.
...внешний мир раскрывает внутренний мир, изучение сознания должно говорить нам нечто реальное об окружающем мире. Он говорит, что все человеческое познание отражает наше приближение к этой общей границе между живым и неживым — и непрерывные колебания этой границы... созвучны идеям Фрейда в отношении того, что вызывает ощущение «жути» — нашей способности очаровываться и увлекаться сверхъестественным и странным. Основываясь на своем анализе сказок, мифологии и литературы о сверхъестественном, Фрейд указывает, что мы испытываем чувство жути там, где обычная граница между живым и неживым претерпевает смещение.
... сама метафора связана с абстрагированием структур физического мира и их потенциальным использованием для само-отражения, так что мы обнаруживаем свои чувства и состояния в свечениях и течениях физического мира. Отсюда следует, что сама обоснованность символического познания в нашей способности видеть одну из этих сфер в терминах другой влечет за собой потенциальное ощущение сверхъестественного. Наша мысль путешествует туда и обратно через границу между живым и мертвым.
Мы задаемся вопросом о природе физического мира и о том, каково быть в этом мире, но всегда подходим к одному из этих вопросов с точки зрения другого. Исторически всегда оказывалось невозможно ни безусловно развести эти вопросы, ни столь же безусловно свести их воедино.
За промежуток времени от традиционных культур до нашей сегодняшней «научной» культуры положение общей «очаровывающей» границы между этими сферами изменилось. Оно начиналось с анимизма, в котором структуры физического мира непосредственно ощущаются как сознательные и, потому, как зеркала для сознания. Современная эпоха определялась сдвигом к «механицизму», где мы распространяли свою собственную волю и способность к управлению движением на физический мир, как если бы они были его единственным и самым глубоким принципом. Хайдеггер выражал озабоченность тем, что все аспекты нашей современной жизни станут предметами потребления, подлежащими аналогичному управлению и использованию — от этого страха нелегко отмахнуться, если причинные принципы материального мира, в действительности, являются нашими собственными.
... хотя положение границы между сознанием и миром постоянно меняется от культуры к культуре и от эпохи к эпохе, наша озабоченность ей остается неизменной. Теперь кое-кто стремится «понять» Большой Взрыв космологического творения, отождествляя его со взрывом света в мистических состояниях. Другие стремятся «объяснить» религиозный опыт как диссипативный захват. Я уже высказывал предположение, что современное увлечение нелинейной динамикой уже отражает растущий интерес к уровням физической реальности, которые наиболее близки к свойствам живой и чувствующей материи. Мы как будто оборачиваемся назад, чтобы взглянуть через границу в новом направлении — из мира и через мир в направлении сознания.
мы преувеличили различия между интерпретирующими-понимающими дисциплинами гуманитарных наук и объяснительными дисциплинами естественных наук — поскольку их разделение было просто исторической случайностью. традиционные общества и классические цивилизации не создавали никакой абсолютной дихотомии между духом и природой. Напротив, они считали, что между «микрокосмом» и «макрокосмом» существует только взаимное отражение, поскольку каждую из этих сфер организуют одни и те же паттерны. Но традиционные общества понимали природу как развитие духа.
Западный переход к механицизму, напротив, был связан с распространением нашей способности к движению и манипулированию на физическую природу, а затем обратно на нас самих. Этот сдвиг, характеризовавший эпоху модернизма, имеет глубокие последствия, поскольку затем мы стали выводить самих себя из таким образом порабощенной и подчиненной природы.
наиболее фундаментальные понятия современной физики отражают все большее и, главным образом, бессознательное приближение к организации непосредственного восприятия, возможно, что цивилизация пытается вернуть себе то, что значит быть живым, чувствующим и присутствующем в мире. Главные достижения современной теоретической физики — от теории относительности и квантовой механики до космологии расширения вселенной из сингулярности и нелинейной динамики —вызвали необычайно широкий интерес и стали доступными для «образного отождествления» на том уровне, который многие ученые открыто отвергают как «мистический». Однако если мы эволюционировали из динамики и структуры этой самой вселенной, и если ее принципы действительно отражаются в перцептуальном строе чувствующих существ в различных формах и на разных уровнях, то наше обращение к этим структурам должно сходным образом разъяснять и вселенную, и сознание. Если все аспекты вселенной в каком то смысле подразумевают друг друга, то самым теоретически экономным было бы видеть источник нашего познания этих взаимосвязей в бесчисленных метафорических паттернах, предоставляемых восприятием — это представление о познании возвращает нас к первичности нашего чувственного бытия-в мире и уводит от всего «внечувственного».
Мы уже видели, что принцип дополнительности Бора и принцип неопределенности Гейзенберга были отчасти навеяны идеями Джемса о потоке сознания, возможный вывод принципа дополнительности из чередующихся организаций восприятия. Одни и те же узоры поверхности могут либо «распознаваться» в качестве имеющих конкретное значение для организма, либо становиться частью оболочки потока, но никогда не может происходить и то, и другое одновременно. Поверхность либо проплывает мимо как часть общего расслаивания, либо абстрагируется из этого строя в качестве потенциально неподвижной. Оба эти процесса представляют собой «восприятие» «одного и того же», так что аналогия с физической дополнительностью описания света как волны или частицы кажется точной.
На стыке объемлющего строя и распознавания присутствует и нечто весьма похожее на принцип неопределенности — согласно которому, наблюдение одного параметра так изменяет ситуацию, что другой параметр становится ненаблюдаемым. Объемлющий ряд предоставляет подвижному существу многочисленные пути для дальнейшего движения, но они не являются обратимыми в логическом смысле. Если организм выбирает один путь и частично проходит по нему, то это не позволит ему, если он вернется в точку первоначального выбора, двигаться по другому пути так же и с тем же результатом, как если бы этот путь был выбран с самого начала. Области позади изменились как непосредственный результат времени, потраченного на первый выбранный путь, а также значимости для организма происходящих там событий. С точки зрения жизненного пространства, основанного на событиях, независимо от того, возвращается ли организм к исходной точке и заново выбирает путь или многократно движется по «одному и тому же» пути, он всегда движется по другому пути.
Модель «параллельных вселенных» предлагает решение проблемы квантовой неопределенности, постулируя, что все возможные траектории частиц сосуществуют параллельно в бесконечном множестве различных реальностей.*
*)Гипотезу «множественных миров» предложил Хью Эверетт в качестве решения «проблемы измерения», позволяющего избежать «редукции волновой функции» (см. примечание выше). Об этой гипотезе достаточно популярно рассказано в книге А. Минделла «Сила безмолвия»
Из этого следует, что сам строй может не определяться иначе, чем одновременное собрание всех возможных положений и путей, из которых и с которых он может быть дан — жизненный мир может существовать только в его множественной данности резонирующим с ним существам, которые в равной мере и коллективно порождают его, как и он, в свою очередь, допускает и обеспечивает их. Если объемлющий строй составляет вся совокупность возможных положений в нем, отсюда следует, что «множественные миры», данные параллельно, уже внутренне присущи самому восприятию.
относительность пространства-времени для природы и импульса событий в нем, хотя и представляет собой радикальный отход от вселенной Ньютона, в действительности представляет собой все большее приближение к обычному восприятию. Вместо того чтобы мыслить в терминах абстрактных «точек» в пространстве, «основным элементом [становится] импульс, который, подобно моменту сознания не может быть точно связан с измерениями пространства и времени, но, скорее... охватывает область, протяженную в пространстве и имеющую длительность во времени». объемлющий строй развертывается из всей совокупности движений, которые может совершать в нем конкретное существо, обладающее конкретными размерами, формой и скоростью. Результатом становится то, что «эта комната» представляет собой в высшей степени различное пространственно-временное событие для разных видов — меня самого, моей собаки, мотылька на шторе. И в то же время каждый такой мир будет развертываться в соответствии с общими принципами организации, согласно которым «протяженность» и «распространение» являются функцией развертываемых таким образом событий — во многом так же, как вода ручья создает характерную пространственно-временную оболочку вокруг камня на своем пути, а большие астрономические массы во вселенной Эйнштейна «искривляют» пространство-время вокруг себя.
Физика и сознание: метафора и колеблющаяся граница
между сознанием и миром
Я уже доказывал, что межмодально структурируемые метафоры составляют основу всего символического познания, и сами представляют собой проработки свойств восприятия. Отсюда следует, что такие метафоры должны быть двунаправленными. Во-первых, они указывают вовне. Если мы действительно можем выводить основные принципы современной физики из перцептуального строя, то все физическое знание становится расширением восприятия. Во-вторых, если мы можем познавать самих себя только посредством метафорического преобразования свойств физической реальности, тогда не только в примитивном анимизме, но и в реальностях, открываемых современной физикой, любая характеристика мира становится потенциальной метафорой для нашего собственного сознания. В соответствии с тем, что Юнг писал об алхимиках, то, что казалось неодушевленным, нечеловеческим и чуждым, внезапно отражает аспекты нашей собственной природы, которых мы до этого не осознавали. С этой точки зрения, мистицизм и физика согласуются потому, что они разрабатываются из одних и тех же структур. В каждом случае познание основывается на воссоздании все более и более фундаментальных принципов перцептуального строя.
...внешний мир раскрывает внутренний мир, изучение сознания должно говорить нам нечто реальное об окружающем мире. Он говорит, что все человеческое познание отражает наше приближение к этой общей границе между живым и неживым — и непрерывные колебания этой границы... созвучны идеям Фрейда в отношении того, что вызывает ощущение «жути» — нашей способности очаровываться и увлекаться сверхъестественным и странным. Основываясь на своем анализе сказок, мифологии и литературы о сверхъестественном, Фрейд указывает, что мы испытываем чувство жути там, где обычная граница между живым и неживым претерпевает смещение.
... сама метафора связана с абстрагированием структур физического мира и их потенциальным использованием для само-отражения, так что мы обнаруживаем свои чувства и состояния в свечениях и течениях физического мира. Отсюда следует, что сама обоснованность символического познания в нашей способности видеть одну из этих сфер в терминах другой влечет за собой потенциальное ощущение сверхъестественного. Наша мысль путешествует туда и обратно через границу между живым и мертвым.
Мы задаемся вопросом о природе физического мира и о том, каково быть в этом мире, но всегда подходим к одному из этих вопросов с точки зрения другого. Исторически всегда оказывалось невозможно ни безусловно развести эти вопросы, ни столь же безусловно свести их воедино.
За промежуток времени от традиционных культур до нашей сегодняшней «научной» культуры положение общей «очаровывающей» границы между этими сферами изменилось. Оно начиналось с анимизма, в котором структуры физического мира непосредственно ощущаются как сознательные и, потому, как зеркала для сознания. Современная эпоха определялась сдвигом к «механицизму», где мы распространяли свою собственную волю и способность к управлению движением на физический мир, как если бы они были его единственным и самым глубоким принципом. Хайдеггер выражал озабоченность тем, что все аспекты нашей современной жизни станут предметами потребления, подлежащими аналогичному управлению и использованию — от этого страха нелегко отмахнуться, если причинные принципы материального мира, в действительности, являются нашими собственными.
... хотя положение границы между сознанием и миром постоянно меняется от культуры к культуре и от эпохи к эпохе, наша озабоченность ей остается неизменной. Теперь кое-кто стремится «понять» Большой Взрыв космологического творения, отождествляя его со взрывом света в мистических состояниях. Другие стремятся «объяснить» религиозный опыт как диссипативный захват. Я уже высказывал предположение, что современное увлечение нелинейной динамикой уже отражает растущий интерес к уровням физической реальности, которые наиболее близки к свойствам живой и чувствующей материи. Мы как будто оборачиваемся назад, чтобы взглянуть через границу в новом направлении — из мира и через мир в направлении сознания.
мы преувеличили различия между интерпретирующими-понимающими дисциплинами гуманитарных наук и объяснительными дисциплинами естественных наук — поскольку их разделение было просто исторической случайностью. традиционные общества и классические цивилизации не создавали никакой абсолютной дихотомии между духом и природой. Напротив, они считали, что между «микрокосмом» и «макрокосмом» существует только взаимное отражение, поскольку каждую из этих сфер организуют одни и те же паттерны. Но традиционные общества понимали природу как развитие духа.
Западный переход к механицизму, напротив, был связан с распространением нашей способности к движению и манипулированию на физическую природу, а затем обратно на нас самих. Этот сдвиг, характеризовавший эпоху модернизма, имеет глубокие последствия, поскольку затем мы стали выводить самих себя из таким образом порабощенной и подчиненной природы.
наиболее фундаментальные понятия современной физики отражают все большее и, главным образом, бессознательное приближение к организации непосредственного восприятия, возможно, что цивилизация пытается вернуть себе то, что значит быть живым, чувствующим и присутствующем в мире. Главные достижения современной теоретической физики — от теории относительности и квантовой механики до космологии расширения вселенной из сингулярности и нелинейной динамики —вызвали необычайно широкий интерес и стали доступными для «образного отождествления» на том уровне, который многие ученые открыто отвергают как «мистический». Однако если мы эволюционировали из динамики и структуры этой самой вселенной, и если ее принципы действительно отражаются в перцептуальном строе чувствующих существ в различных формах и на разных уровнях, то наше обращение к этим структурам должно сходным образом разъяснять и вселенную, и сознание. Если все аспекты вселенной в каком то смысле подразумевают друг друга, то самым теоретически экономным было бы видеть источник нашего познания этих взаимосвязей в бесчисленных метафорических паттернах, предоставляемых восприятием — это представление о познании возвращает нас к первичности нашего чувственного бытия-в мире и уводит от всего «внечувственного».
Мы уже видели, что принцип дополнительности Бора и принцип неопределенности Гейзенберга были отчасти навеяны идеями Джемса о потоке сознания, возможный вывод принципа дополнительности из чередующихся организаций восприятия. Одни и те же узоры поверхности могут либо «распознаваться» в качестве имеющих конкретное значение для организма, либо становиться частью оболочки потока, но никогда не может происходить и то, и другое одновременно. Поверхность либо проплывает мимо как часть общего расслаивания, либо абстрагируется из этого строя в качестве потенциально неподвижной. Оба эти процесса представляют собой «восприятие» «одного и того же», так что аналогия с физической дополнительностью описания света как волны или частицы кажется точной.
На стыке объемлющего строя и распознавания присутствует и нечто весьма похожее на принцип неопределенности — согласно которому, наблюдение одного параметра так изменяет ситуацию, что другой параметр становится ненаблюдаемым. Объемлющий ряд предоставляет подвижному существу многочисленные пути для дальнейшего движения, но они не являются обратимыми в логическом смысле. Если организм выбирает один путь и частично проходит по нему, то это не позволит ему, если он вернется в точку первоначального выбора, двигаться по другому пути так же и с тем же результатом, как если бы этот путь был выбран с самого начала. Области позади изменились как непосредственный результат времени, потраченного на первый выбранный путь, а также значимости для организма происходящих там событий. С точки зрения жизненного пространства, основанного на событиях, независимо от того, возвращается ли организм к исходной точке и заново выбирает путь или многократно движется по «одному и тому же» пути, он всегда движется по другому пути.
Модель «параллельных вселенных» предлагает решение проблемы квантовой неопределенности, постулируя, что все возможные траектории частиц сосуществуют параллельно в бесконечном множестве различных реальностей.*
*)Гипотезу «множественных миров» предложил Хью Эверетт в качестве решения «проблемы измерения», позволяющего избежать «редукции волновой функции» (см. примечание выше). Об этой гипотезе достаточно популярно рассказано в книге А. Минделла «Сила безмолвия»
Из этого следует, что сам строй может не определяться иначе, чем одновременное собрание всех возможных положений и путей, из которых и с которых он может быть дан — жизненный мир может существовать только в его множественной данности резонирующим с ним существам, которые в равной мере и коллективно порождают его, как и он, в свою очередь, допускает и обеспечивает их. Если объемлющий строй составляет вся совокупность возможных положений в нем, отсюда следует, что «множественные миры», данные параллельно, уже внутренне присущи самому восприятию.
относительность пространства-времени для природы и импульса событий в нем, хотя и представляет собой радикальный отход от вселенной Ньютона, в действительности представляет собой все большее приближение к обычному восприятию. Вместо того чтобы мыслить в терминах абстрактных «точек» в пространстве, «основным элементом [становится] импульс, который, подобно моменту сознания не может быть точно связан с измерениями пространства и времени, но, скорее... охватывает область, протяженную в пространстве и имеющую длительность во времени». объемлющий строй развертывается из всей совокупности движений, которые может совершать в нем конкретное существо, обладающее конкретными размерами, формой и скоростью. Результатом становится то, что «эта комната» представляет собой в высшей степени различное пространственно-временное событие для разных видов — меня самого, моей собаки, мотылька на шторе. И в то же время каждый такой мир будет развертываться в соответствии с общими принципами организации, согласно которым «протяженность» и «распространение» являются функцией развертываемых таким образом событий — во многом так же, как вода ручья создает характерную пространственно-временную оболочку вокруг камня на своем пути, а большие астрономические массы во вселенной Эйнштейна «искривляют» пространство-время вокруг себя.
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
Представление опыта: некоторые взаимные ограничения в теоретической физике и теоретической психологии
Я попытался показать, что формальные свойства восприятия можно считать источником не только мистического опыта, но и основных принципов современной науки. развитие современной физики отражает все большее приближение к формальным свойствам присутствия-открытости и потока «куда-откуда» восприятия.
Традиционная точка зрения, разумеется, всегда состояла в том, что современная наука обесценивает свойства обычного восприятия, которые могут лишь сбивать нас с толка в нашем осмыслении вновь открываемых реалий физического порядка. Это представление о разрыве между наукой и восприятием было связано с родственным спором, растянувшимся на всю историю физики XX в. Как точно резюмировал Артур Миллер, существуют значительные разногласия в отношении возможности полного зрительного или пространственного представления важнейших понятий современной физики. Миллер полагает, что по мере того как физика все дальше отходила от классического мировоззрения, образы научной мысли подвергались соответствующему абстрагированию. Только самые избранные и отвлеченные отношения могли изображаться в абстрактном графическом представлении, которое теперь было в высшей степени удалено от всего, связанного с конкретным восприятием. Общепринятое мнение состояло в том, что современная физика слишком формальна и слишком далека от обыденного восприятия, чтобы ее вообще можно было представлять графически без вводящих в заблуждение искажений, обусловленных неадекватностью самого этого средства выражения.
Не исключено, что спор о том, может ли современная физика быть представлена в абстрактной графической форме, отражает не столько ее растущее отдаление от восприятия, сколько совершенно противоположную тенденцию. Суть в том, что опыт и, в особенности, восприятие тоже нельзя «нарисовать» — по крайней мере без таких же абстракций, упрощений и удаления от его непосредственной реальности. мы не можем нарисовать структуру опыта как такового и самого по себе. Общим для современной физики и феноменологии является именно проблематичность любого графического представления их текучих, турбулентных пространств-времен.
Обращаясь теперь к некоторым попыткам «изображать» абстрактные структуры опыта, предпринимавшиеся в психологии, мы увидим, что восприятие и физическая вселенная сопротивляются более традиционному представлению примечательно сходным образом.
Я попытался показать, что формальные свойства восприятия можно считать источником не только мистического опыта, но и основных принципов современной науки. развитие современной физики отражает все большее приближение к формальным свойствам присутствия-открытости и потока «куда-откуда» восприятия.
Традиционная точка зрения, разумеется, всегда состояла в том, что современная наука обесценивает свойства обычного восприятия, которые могут лишь сбивать нас с толка в нашем осмыслении вновь открываемых реалий физического порядка. Это представление о разрыве между наукой и восприятием было связано с родственным спором, растянувшимся на всю историю физики XX в. Как точно резюмировал Артур Миллер, существуют значительные разногласия в отношении возможности полного зрительного или пространственного представления важнейших понятий современной физики. Миллер полагает, что по мере того как физика все дальше отходила от классического мировоззрения, образы научной мысли подвергались соответствующему абстрагированию. Только самые избранные и отвлеченные отношения могли изображаться в абстрактном графическом представлении, которое теперь было в высшей степени удалено от всего, связанного с конкретным восприятием. Общепринятое мнение состояло в том, что современная физика слишком формальна и слишком далека от обыденного восприятия, чтобы ее вообще можно было представлять графически без вводящих в заблуждение искажений, обусловленных неадекватностью самого этого средства выражения.
Не исключено, что спор о том, может ли современная физика быть представлена в абстрактной графической форме, отражает не столько ее растущее отдаление от восприятия, сколько совершенно противоположную тенденцию. Суть в том, что опыт и, в особенности, восприятие тоже нельзя «нарисовать» — по крайней мере без таких же абстракций, упрощений и удаления от его непосредственной реальности. мы не можем нарисовать структуру опыта как такового и самого по себе. Общим для современной физики и феноменологии является именно проблематичность любого графического представления их текучих, турбулентных пространств-времен.
Обращаясь теперь к некоторым попыткам «изображать» абстрактные структуры опыта, предпринимавшиеся в психологии, мы увидим, что восприятие и физическая вселенная сопротивляются более традиционному представлению примечательно сходным образом.
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
Открывая врата сердца и другие буддийские рассказы - Аджан Брам
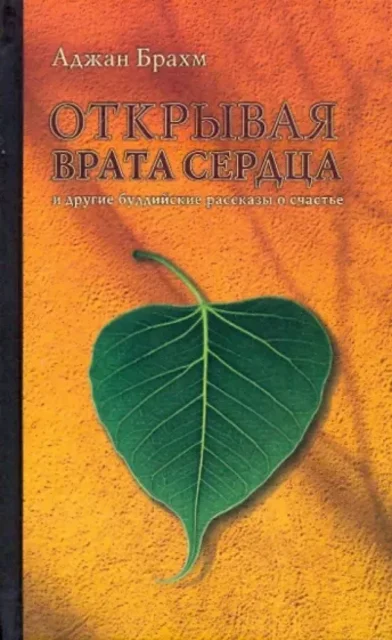
https://www.youtube.com/watch?v=pz4eSNKYOlw&t=13s
https://theravada.world/ajahn-brahm-otk ... dio-kniga/
Открывая врата сердца и другие буддийские рассказы о счастье
Подарите себе момент покоя, и вы поймёте, как глупо вы суетитесь.
Научитесь быть молчаливым, и вы заметите, что говорите слишком много.
Будьте добры, и вы почувствуете, что ваш приговор другим был слишком жестоким.
СТАРИННОЕ КИТАЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ
Отпустить боль
В предыдущей истории речь шла о страхе перед страданием от зубной боли и о том, как я позволил этому страху уйти. Я радушно встретил боль, принял её в себя и позволил ей быть. Поэтому она ушла.
Многие мои друзья, страдая от сильной боли, пытались применить этот метод и обнаруживали, что он не помогает! Чтобы объяснить, почему метод отпускания не помог этим людям, я прибегаю к следующей истории о трёх своих учениках.
Первый ученик страдает от сильной боли и старается отпустить её.
- Отпускаю, - мягко говорит он и ждёт.
- Отпускаю! - повторяет ученик, когда чего не меняется.
- Ну же! Поторапливайся! Я отпускаю.
- Я же говорю тебе: отпускаю! Уходи!
- УХОДИ!
Это может казаться забавным, но именно так мы поступаем в большинстве случаев. Мы отпускаем то, что неправильно и чего не должно быть. Однако нам следует прежде всего отпускать того, кто говорит: «Отпускаю». Нам нужно позволить уйти сидящему внутри нас «диктатору», ведь все мы прекрасно его знаем. Отпустить - значит предложить уйти контролёру.
Второй ученик, чувствуя ужасную боль и помня этот совет, позволяет своему контролёру уйти. Он сидит с болью и притворяется, что отпускает. Проходит десять минут, а боль остаётся прежней, тогда он начинает жаловаться, что метод отпускания не работает. Таким ученикам я объясняю, что отпускание - это не метод избавления от боли, это способ быть свободным от боли. Второй ученик просто пытался заключить сделку с болью: «В течение десяти минут я буду отпускать, - и ты, боль, исчезнешь. Ладно?»
Так боль не отпускают: так пытаются избавиться от боли.
Третий ученик говорит своей боли примерно такие слова: «Боль, дверь моего сердца открыта для тебя, что бы ты со мной ни делала. Входи.»
Третий ученик всецело желает позволить боли длиться столько, сколько ей захочется, даже до конца его жизни; он позволяет eй даже усилиться. Такие люди предоставляют чувству боли свободу. Останется боль или уйдет — теперь для них это не имеет значения. Только в таком случае боль действительно исчезает.
Предвкушение, то есть страх, - вот главная составляющая боли.
Без тревог
Позволить уйти «контролёру», пребывать в данном моменте и быть открытым перед неопределённостью будущего - в этом заключается наше освобождение из темницы страха. Это позволяет нам реагировать на уготованные судьбой испытания, используя собственную природную мудрость, а также выходить невредимыми из множества опасных ситуаций.
Питающийся гневом демон
Если говорить о гневе, трудность его преодоле¬ния заключается в том, что нам нравится злиться. Проявление гнева сопровождается мощным и вызывающим привыкание удовольствием. А мы не желаем отпускать то, что доставляет нам наслаждение. Если мы просто осознаём, каковы плоды гнева, и будем помнить об этой связи, у нас появится желание отпустить гнев.
... Проблема становится на вершок больше каждый раз, когда вы злитесь даже мысленно.
Боль - это ещё один «демон, питающийся гневом». Когда мы со злостью думаем: «Боль! Убирайся отсюда! Тебе здесь не место!» - она становится чуть сильнее и неприятнее во всех других отношениях. Трудно быть добрым по отношению к чему-то настолько ужасному и отвратительному, как боль, однако в нашей жизни бывают моменты, когда у нас просто нет другого выбора. если мы искренне и неподдельно принимаем боль, она утихает, тяготы наши идут на убыль, а иногда и исчезают вовсе.
Некоторые болезни тоже являются «демонами, питающимися гневом», уродливыми и отвратительными чудовищами, которые расположились в нашем теле, заняли наш «трон». Вполне естественно сказать: «Убирайся отсюда! Это не твоё место!» Но когда эта беда обрушилась на нас или даже ещё раньше, возможно, нам удастся сказать: «Добро пожаловать». Некоторые болезни существуют за счёт стрессов именно поэтому они - «демоны, питающиеся гневом». Такие виды заболеваний хорошо поддаются лечению, когда «хозяин дворца» бесстрашно заявляет: «Болезнь, дверь моего сердца полностью открыта для тебя, что бы ты ни делала. Входи!»
Улыбка с помощью двух пальцев
Труднее всего хвалить себя. Такой человек становится великодушным. Одобрение собственных добродетельных качеств перед самим собой, без сомнений, способствует их развитию.
...Я выполнял эту практику каждое утро. встав с постели, я, независимо от самочувствия, смеялся над собой в зеркале, обычно прибегая к помощи двух пальцев. Люди говорят, что теперь я много улыбаюсь. Возможно, мои мимические мышцы просто свело в таком положении.
К этой уловке с двумя пальцами можно прибегать в любое время суток. Этот приём особенно эффективен, когда мы больны, совершенно подавлены или чувствуем, что нам всё надоело. Доказано, что благодаря смеху в крови вырабатываются эндорфины, которые укрепляют иммунную систему и дают нам ощущение счастья.
Смех помогает нам увидеть в стене 998 прекрасных кирпичей, а не только два плохих. К тому же, когда мы смеёмся, мы выглядим намного красивее. Вот почему иногда наш буддийский храм в Перте я называю «Салон красоты Аджана Брахма».
Машина навоза
...
великими учителями не стали те монахи, которым доста¬лось мало навоза для «закапывания». Но были монахи, которые, столкнувшись с громадными трудностями, работали над проблемами тихонько, не привлекая всеобщего внимания, и так обрели изобилующий плодами сад, став великими учителями. Все они обладают мудростью, безмятежностью и состраданием; просто у тех, кому в жизни досталось больше навоза, есть больше чем поделиться с миром. если у вас есть желание следовать пути сострадания, тогда в следующий раз, когда беда постучится в вашу дверь, вы сможете сказать: «Ого! Ещё больше удобрений для моего сада!»
Пить чай в безвыходной ситуации
«Когда ничего нельзя сделать, не делайте ничего».
Плыть по течению
Один мудрый монах... попал в быстрину, которая понесла его в море. Сперва монах пытался плыть против течения. Однако вскоре понял, что этот поток слишком мощный для него. В этот момент ему на помощь пришла его практика. Он расслабился, всё отпустил и поплыл по течению. Расслабиться в такой ситуации - когда он видел, как всё дальше и дальше удаляется бере¬говая линия, - было проявлением величайшего мужества. Когда течение стихло, он находился за сотни метров от берега. Только тогда он принялся работать телом, чтобы выплыть из быстрины и повернуть в направлении берега.
На это ушёл весь запас сбережённых сил. Берега монах достиг совершенно обессиленным. Он был уверен, что, если бы попробовал противостоять течению, оно победило бы его. Его точно так же унесло бы потоком далеко в море, но все силы были бы потрачены на борьбу, так что он не смог бы вернуться. Он был убеждён, что, если бы не отпустил ситуацию и не поплыл вместе с течением, он бы утонул.
Подобные случаи из жизни показывают, что изречение: «Когда нельзя ничего сделать, не делайте ничего» — это вовсе не теория, далёкая от реальности. Напротив, это может оказаться спасительной мудростью. Если течение сильнее вac, значит, пришло время плыть по течению. А когда вы способны действовать эффективно, значит, пришло время прилагать усилия.
Совет на всю жизнь
... «Аджан Ча говорит, что если вы собираетесь подметать, то вкладывайте в это всего себя»
И смысл учения прояснился. «Что бы ты ни делал, вкладывай в это всего себя».
Теперь эти слова стали его девизом, это принесло ему счастье и успех. Когда он работал, то вкладывал в дело всё, что у него было. Когда он отдыхал, он предавался отдыху всем существом. Если он общался, то полностью отдавал этому всё, что мог. В этом заключалась формула успеха. И ещё, когда он ничего не делал, он отдавал этому ничегонеде¬ланию всё, что только у него было.
Обвинение других
У человека зудел зад,
А он чесал голову.
Зуд так и не прошёл.
***
Большую часть жизненного времени вы находитесь наедине с собой. Тогда самой важной персоной - человеком, с которым вы сейчас находитесь, - являетесь вы. У нас есть так много времени, чтобы уделить себе внимание. Когда вы просыпаетесь утром, кто тот человек, которого вы осознаёте первым? Вы сами! Но говорите ли вы когда-нибудь: «Доброе утро, я. Хорошего дня!» Я говорю. А кто последний человек, которого вы осознаёте засыпая? Снова вы! Я говорю себе: «Спокойной ночи». В течение дня существует много личных, неофициальных моментов, когда я даю себе почувствовать собственную важность. Этот метод работает.
- Что важнее всего делать? Любить.
***
Если доброту можно представить в образе прекрасного голубя, то мудрость - это крылья голубя. Без мудрости сострадание никогда не поднимется в воздух.
***
Чтобы получить удовольствие от вкуса еды и познать жизнь во всей её полноте, часто нам следует наслаждаться текущим моментом в тишине.
***
«Провёл несколько самых счастливых часов в своей жизни... в любящих объятиях жены другого мужчины». Я сказал это. Я признался.
«Мы обнимались. Мы гладили друг друга. Мы целовались», - закончил я. Затем я опустил голову и уставился в ковёр. .... Моей матери.
***
Счастье реально. Несчастье достоверно. Нет никаких сомнений в том, что эти вещи существуют. Однако вы не можете определить местонахождение этих реальностей где бы то ни было в пределах вашего тела, за пределами вашего тела или вообще где-нибудь.
***
Свобода означает находиться там, где ты есть, по собственному желанию. Тюрьма - это желание находиться где-то в другом месте. Свободный мир - это мир, переживаемый тем, кто удовлетворён. Истинной свободой является свобода от желания и никогда - свобода желания.
***
Самой трудной частью чего бы то ни было в нашей жизни, является размышление об этом.
***
Горе означает, что мы видим только то, что у нас отнято. Торжество жизни - это когда мы ценим то, чем были осчастливлены, и чувствуем великую благодарность за это.
https://www.youtube.com/watch?v=0dLXllM2bzU
Аджан Брахм родился в Лондоне в 1951 году. Его интерес к буддизму и медитации возрос во время изучения теоретической физики в Кембриджском университете. В Бангкоке в возрасте двадцати трёх лет он принял духовный сан. Следующие девять лет он провёл в обучении и практике в соответствии с лесной традицией медитации под руководством преподобного Аджана Ча. В настоящее время Аджан Брахм является настоятелем монастыря Бодхиньяна и духовным руководителем Буддийского общества Западной Австралии.
Медитация - практика «отпускания», приводящая к достижению глубоких состояний внутреннего покоя, свободы и блаженства.
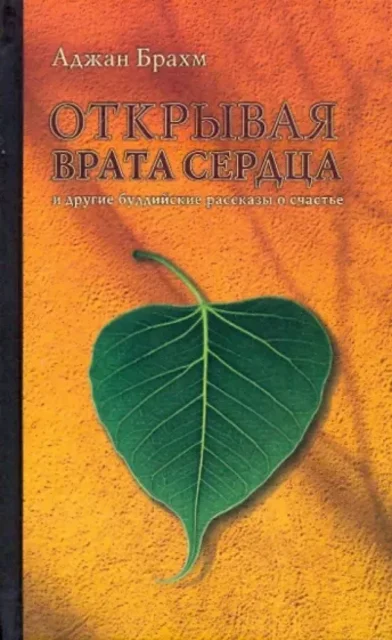
https://www.youtube.com/watch?v=pz4eSNKYOlw&t=13s
https://theravada.world/ajahn-brahm-otk ... dio-kniga/
Открывая врата сердца и другие буддийские рассказы о счастье
Подарите себе момент покоя, и вы поймёте, как глупо вы суетитесь.
Научитесь быть молчаливым, и вы заметите, что говорите слишком много.
Будьте добры, и вы почувствуете, что ваш приговор другим был слишком жестоким.
СТАРИННОЕ КИТАЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ
Отпустить боль
В предыдущей истории речь шла о страхе перед страданием от зубной боли и о том, как я позволил этому страху уйти. Я радушно встретил боль, принял её в себя и позволил ей быть. Поэтому она ушла.
Многие мои друзья, страдая от сильной боли, пытались применить этот метод и обнаруживали, что он не помогает! Чтобы объяснить, почему метод отпускания не помог этим людям, я прибегаю к следующей истории о трёх своих учениках.
Первый ученик страдает от сильной боли и старается отпустить её.
- Отпускаю, - мягко говорит он и ждёт.
- Отпускаю! - повторяет ученик, когда чего не меняется.
- Ну же! Поторапливайся! Я отпускаю.
- Я же говорю тебе: отпускаю! Уходи!
- УХОДИ!
Это может казаться забавным, но именно так мы поступаем в большинстве случаев. Мы отпускаем то, что неправильно и чего не должно быть. Однако нам следует прежде всего отпускать того, кто говорит: «Отпускаю». Нам нужно позволить уйти сидящему внутри нас «диктатору», ведь все мы прекрасно его знаем. Отпустить - значит предложить уйти контролёру.
Второй ученик, чувствуя ужасную боль и помня этот совет, позволяет своему контролёру уйти. Он сидит с болью и притворяется, что отпускает. Проходит десять минут, а боль остаётся прежней, тогда он начинает жаловаться, что метод отпускания не работает. Таким ученикам я объясняю, что отпускание - это не метод избавления от боли, это способ быть свободным от боли. Второй ученик просто пытался заключить сделку с болью: «В течение десяти минут я буду отпускать, - и ты, боль, исчезнешь. Ладно?»
Так боль не отпускают: так пытаются избавиться от боли.
Третий ученик говорит своей боли примерно такие слова: «Боль, дверь моего сердца открыта для тебя, что бы ты со мной ни делала. Входи.»
Третий ученик всецело желает позволить боли длиться столько, сколько ей захочется, даже до конца его жизни; он позволяет eй даже усилиться. Такие люди предоставляют чувству боли свободу. Останется боль или уйдет — теперь для них это не имеет значения. Только в таком случае боль действительно исчезает.
Предвкушение, то есть страх, - вот главная составляющая боли.
Без тревог
Позволить уйти «контролёру», пребывать в данном моменте и быть открытым перед неопределённостью будущего - в этом заключается наше освобождение из темницы страха. Это позволяет нам реагировать на уготованные судьбой испытания, используя собственную природную мудрость, а также выходить невредимыми из множества опасных ситуаций.
Питающийся гневом демон
Если говорить о гневе, трудность его преодоле¬ния заключается в том, что нам нравится злиться. Проявление гнева сопровождается мощным и вызывающим привыкание удовольствием. А мы не желаем отпускать то, что доставляет нам наслаждение. Если мы просто осознаём, каковы плоды гнева, и будем помнить об этой связи, у нас появится желание отпустить гнев.
... Проблема становится на вершок больше каждый раз, когда вы злитесь даже мысленно.
Боль - это ещё один «демон, питающийся гневом». Когда мы со злостью думаем: «Боль! Убирайся отсюда! Тебе здесь не место!» - она становится чуть сильнее и неприятнее во всех других отношениях. Трудно быть добрым по отношению к чему-то настолько ужасному и отвратительному, как боль, однако в нашей жизни бывают моменты, когда у нас просто нет другого выбора. если мы искренне и неподдельно принимаем боль, она утихает, тяготы наши идут на убыль, а иногда и исчезают вовсе.
Некоторые болезни тоже являются «демонами, питающимися гневом», уродливыми и отвратительными чудовищами, которые расположились в нашем теле, заняли наш «трон». Вполне естественно сказать: «Убирайся отсюда! Это не твоё место!» Но когда эта беда обрушилась на нас или даже ещё раньше, возможно, нам удастся сказать: «Добро пожаловать». Некоторые болезни существуют за счёт стрессов именно поэтому они - «демоны, питающиеся гневом». Такие виды заболеваний хорошо поддаются лечению, когда «хозяин дворца» бесстрашно заявляет: «Болезнь, дверь моего сердца полностью открыта для тебя, что бы ты ни делала. Входи!»
Улыбка с помощью двух пальцев
Труднее всего хвалить себя. Такой человек становится великодушным. Одобрение собственных добродетельных качеств перед самим собой, без сомнений, способствует их развитию.
...Я выполнял эту практику каждое утро. встав с постели, я, независимо от самочувствия, смеялся над собой в зеркале, обычно прибегая к помощи двух пальцев. Люди говорят, что теперь я много улыбаюсь. Возможно, мои мимические мышцы просто свело в таком положении.
К этой уловке с двумя пальцами можно прибегать в любое время суток. Этот приём особенно эффективен, когда мы больны, совершенно подавлены или чувствуем, что нам всё надоело. Доказано, что благодаря смеху в крови вырабатываются эндорфины, которые укрепляют иммунную систему и дают нам ощущение счастья.
Смех помогает нам увидеть в стене 998 прекрасных кирпичей, а не только два плохих. К тому же, когда мы смеёмся, мы выглядим намного красивее. Вот почему иногда наш буддийский храм в Перте я называю «Салон красоты Аджана Брахма».
Машина навоза
...
великими учителями не стали те монахи, которым доста¬лось мало навоза для «закапывания». Но были монахи, которые, столкнувшись с громадными трудностями, работали над проблемами тихонько, не привлекая всеобщего внимания, и так обрели изобилующий плодами сад, став великими учителями. Все они обладают мудростью, безмятежностью и состраданием; просто у тех, кому в жизни досталось больше навоза, есть больше чем поделиться с миром. если у вас есть желание следовать пути сострадания, тогда в следующий раз, когда беда постучится в вашу дверь, вы сможете сказать: «Ого! Ещё больше удобрений для моего сада!»
Пить чай в безвыходной ситуации
«Когда ничего нельзя сделать, не делайте ничего».
Плыть по течению
Один мудрый монах... попал в быстрину, которая понесла его в море. Сперва монах пытался плыть против течения. Однако вскоре понял, что этот поток слишком мощный для него. В этот момент ему на помощь пришла его практика. Он расслабился, всё отпустил и поплыл по течению. Расслабиться в такой ситуации - когда он видел, как всё дальше и дальше удаляется бере¬говая линия, - было проявлением величайшего мужества. Когда течение стихло, он находился за сотни метров от берега. Только тогда он принялся работать телом, чтобы выплыть из быстрины и повернуть в направлении берега.
На это ушёл весь запас сбережённых сил. Берега монах достиг совершенно обессиленным. Он был уверен, что, если бы попробовал противостоять течению, оно победило бы его. Его точно так же унесло бы потоком далеко в море, но все силы были бы потрачены на борьбу, так что он не смог бы вернуться. Он был убеждён, что, если бы не отпустил ситуацию и не поплыл вместе с течением, он бы утонул.
Подобные случаи из жизни показывают, что изречение: «Когда нельзя ничего сделать, не делайте ничего» — это вовсе не теория, далёкая от реальности. Напротив, это может оказаться спасительной мудростью. Если течение сильнее вac, значит, пришло время плыть по течению. А когда вы способны действовать эффективно, значит, пришло время прилагать усилия.
Совет на всю жизнь
... «Аджан Ча говорит, что если вы собираетесь подметать, то вкладывайте в это всего себя»
И смысл учения прояснился. «Что бы ты ни делал, вкладывай в это всего себя».
Теперь эти слова стали его девизом, это принесло ему счастье и успех. Когда он работал, то вкладывал в дело всё, что у него было. Когда он отдыхал, он предавался отдыху всем существом. Если он общался, то полностью отдавал этому всё, что мог. В этом заключалась формула успеха. И ещё, когда он ничего не делал, он отдавал этому ничегонеде¬ланию всё, что только у него было.
Обвинение других
У человека зудел зад,
А он чесал голову.
Зуд так и не прошёл.
***
Большую часть жизненного времени вы находитесь наедине с собой. Тогда самой важной персоной - человеком, с которым вы сейчас находитесь, - являетесь вы. У нас есть так много времени, чтобы уделить себе внимание. Когда вы просыпаетесь утром, кто тот человек, которого вы осознаёте первым? Вы сами! Но говорите ли вы когда-нибудь: «Доброе утро, я. Хорошего дня!» Я говорю. А кто последний человек, которого вы осознаёте засыпая? Снова вы! Я говорю себе: «Спокойной ночи». В течение дня существует много личных, неофициальных моментов, когда я даю себе почувствовать собственную важность. Этот метод работает.
- Что важнее всего делать? Любить.
***
Если доброту можно представить в образе прекрасного голубя, то мудрость - это крылья голубя. Без мудрости сострадание никогда не поднимется в воздух.
***
Чтобы получить удовольствие от вкуса еды и познать жизнь во всей её полноте, часто нам следует наслаждаться текущим моментом в тишине.
***
«Провёл несколько самых счастливых часов в своей жизни... в любящих объятиях жены другого мужчины». Я сказал это. Я признался.
«Мы обнимались. Мы гладили друг друга. Мы целовались», - закончил я. Затем я опустил голову и уставился в ковёр. .... Моей матери.
***
Счастье реально. Несчастье достоверно. Нет никаких сомнений в том, что эти вещи существуют. Однако вы не можете определить местонахождение этих реальностей где бы то ни было в пределах вашего тела, за пределами вашего тела или вообще где-нибудь.
***
Свобода означает находиться там, где ты есть, по собственному желанию. Тюрьма - это желание находиться где-то в другом месте. Свободный мир - это мир, переживаемый тем, кто удовлетворён. Истинной свободой является свобода от желания и никогда - свобода желания.
***
Самой трудной частью чего бы то ни было в нашей жизни, является размышление об этом.
***
Горе означает, что мы видим только то, что у нас отнято. Торжество жизни - это когда мы ценим то, чем были осчастливлены, и чувствуем великую благодарность за это.
https://www.youtube.com/watch?v=0dLXllM2bzU
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
Ошо - Заратустра: Танцующий Бог
https://akniga.org/osho-zaratustra-bog- ... t-tancevat

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Я говорил не о самом Заратустре, я говорил о Заратустре, которого создал Фридрих Ницше. Заратустра... много раз мне приносили его книги, но они так заурядны, что я никогда о них не говорил. Ницше пользовался Заратустрой просто как символической фигурой,— он был полнейшим вымыслом. Ницше пользовался историческим именем очень вольно.
Так что, во-первых, вам следует помнить, что это Заратустра Фридриха Ницше; у него мало общего с подлинным Заратустрой.
А во-вторых, когда я говорю об этом, я не забочусь о том, что имеет в виду Ницше — и у меня нет никакой возможности узнать, что он имеет в виду. Я пользуюсь им, как он пользуется Заратустрой! Это — мой Ницше, и Ницше — мой Заратустра. Поэтому высоты, в которых вы парите, не имеют никакого отношения к Заратустре». (Из книги «Золотое будущее»)
Так что каждая беседа Ошо становится уроком на особую тему, а каждая тема — это шаг вглубь путешествия. Так родился «Бог, который может танцевать» — человек, который становится Богом, человек, который отважился сбросить все оковы ложных добродетелей и ценностей, который осмеливается танцевать в земной невинности и от избытка радости, распевая свое «священное да» самой жизни.
. Его религию можно свести к одному слову — медитация: состояние не-ума, в котором он может испытать сущностное ядро своего бытия, бессмертное, вечное.
Когда вы входите в свою собственную субъективность, открываются тысячи возможностей. На вас изливаются абсолютно новые переживания, вам такое даже не снилось. У вас нет для них ни слов, ни образов: экстаз, блаженство, мир, который превосходит ваше понимание, живая тишина — не тишина могилы, но тишина сада. Тишина, которая одновременно и песня. Тишина, в которой есть музыка, беззвучная музыка, и любовь, разливающаяся во всех направлениях, никому не адресованная.
Подобно фонтану, вы имеете так много, и все ваши источники приносят вашему существу все больше и больше любви. Вы — только зерно.
Новый человек будет цветком.
из хаоса рождаются звезды. Нужно иметь в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Только будьте хаосом, утробой, чтобы родить танцующую звезду. Человек должен быть всего лишь утробой для того, что он назвал сверхчеловеком, чтобы родился сверхчеловек. Человек должен быть лишь стрелой, а мишень — это сверхчеловек.
Заратустра говорит: «Эта идея — "я прибыл" — самоубийственна. Жизнь — это паломничество». Фактически, у нее нет никакой цели. Вы вечно прибываете, прибываете и прибываете, но вы никогда не прибудете. Все цели просто поддерживают ваше движение, рост. Все цели подобны горизонту, который, кажется, так близок, всего в нескольких милях. Вам кажется, вы можете догнать его, но вы никогда не догоните его, потому что он — всего лишь иллюзия.
Земля и небо нище не встречаются. В тот момент, когда вы достигаете точки, где был горизонт, горизонт отодвинется далеко вперед. Расстояние между вами и горизонтом всегда остается одинаковым, оно неизменно. В этом красота жизни — она все время растет, и этому нет конца; она всегда жива и не знает никакой смерти — она вечна.
Но эта вечность возможна только если человеческое стремление всегда направлено за пределы себя, так что он всегда думает: как превзойти себя? Как дальше уйти от животного и приблизиться к Богу, если Он есть? Вот почему Заратустра сказал: «Человек — это канат, натянутый между животным и Сверхчеловеком. Он — мост, и вы не должны строить свой дом на мосту — мост существует для перехода».
В тот день, когда человек перестает совершать ошибки, он также перестает учиться. Именно путем ошибок вы открываете новые области жизни; именно благодаря ошибкам вы становитесь зрелыми; именно через ошибки приходит мудрость; именно на ошибках развивается человечество.
Новый человек может дать вам новую жизнь, новое пространство для движения, новое измерение, новое направление. Это будет движение внутрь. Тысячи лет мы двигались вовне. Мы слишком далеко ушли от самих себя.
Пришло время, когда мы должны вернуться домой и посмотреть внутрь своего существа, потому что внутри нашего собственного существа находится все, что мы ищем снаружи. Мы не найдем это снаружи, его там нет. Оно здесь.
О ПРЕЗИРАЮЩИХ ТЕЛО
За мыслями и чувствами твоими, брат мой, стоит могущественный господин, неведомый мудрец — Самость имя ему. В твоем теле живет он, он и есть тело твое.
В теле больше разума, нежели в высшей мудрости твоей. И кто знает, зачем вообще нужна телу высшая мудрость? ...
Тело и дух, материя и энергия — одно и то же. Существование не дуально; это органичное целое.
…Превращения, о которых говорит Заратустра, — это вопрос напряженного понимания
https://yandex.ru/video/preview/9683916335154278478
https://rutube.ru/audio/ead96cb25e1ba9e ... 4152200319
https://akniga.org/osho-zaratustra-bog- ... t-tancevat

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Я говорил не о самом Заратустре, я говорил о Заратустре, которого создал Фридрих Ницше. Заратустра... много раз мне приносили его книги, но они так заурядны, что я никогда о них не говорил. Ницше пользовался Заратустрой просто как символической фигурой,— он был полнейшим вымыслом. Ницше пользовался историческим именем очень вольно.
Так что, во-первых, вам следует помнить, что это Заратустра Фридриха Ницше; у него мало общего с подлинным Заратустрой.
А во-вторых, когда я говорю об этом, я не забочусь о том, что имеет в виду Ницше — и у меня нет никакой возможности узнать, что он имеет в виду. Я пользуюсь им, как он пользуется Заратустрой! Это — мой Ницше, и Ницше — мой Заратустра. Поэтому высоты, в которых вы парите, не имеют никакого отношения к Заратустре». (Из книги «Золотое будущее»)
Так что каждая беседа Ошо становится уроком на особую тему, а каждая тема — это шаг вглубь путешествия. Так родился «Бог, который может танцевать» — человек, который становится Богом, человек, который отважился сбросить все оковы ложных добродетелей и ценностей, который осмеливается танцевать в земной невинности и от избытка радости, распевая свое «священное да» самой жизни.
. Его религию можно свести к одному слову — медитация: состояние не-ума, в котором он может испытать сущностное ядро своего бытия, бессмертное, вечное.
Когда вы входите в свою собственную субъективность, открываются тысячи возможностей. На вас изливаются абсолютно новые переживания, вам такое даже не снилось. У вас нет для них ни слов, ни образов: экстаз, блаженство, мир, который превосходит ваше понимание, живая тишина — не тишина могилы, но тишина сада. Тишина, которая одновременно и песня. Тишина, в которой есть музыка, беззвучная музыка, и любовь, разливающаяся во всех направлениях, никому не адресованная.
Подобно фонтану, вы имеете так много, и все ваши источники приносят вашему существу все больше и больше любви. Вы — только зерно.
Новый человек будет цветком.
из хаоса рождаются звезды. Нужно иметь в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Только будьте хаосом, утробой, чтобы родить танцующую звезду. Человек должен быть всего лишь утробой для того, что он назвал сверхчеловеком, чтобы родился сверхчеловек. Человек должен быть лишь стрелой, а мишень — это сверхчеловек.
Заратустра говорит: «Эта идея — "я прибыл" — самоубийственна. Жизнь — это паломничество». Фактически, у нее нет никакой цели. Вы вечно прибываете, прибываете и прибываете, но вы никогда не прибудете. Все цели просто поддерживают ваше движение, рост. Все цели подобны горизонту, который, кажется, так близок, всего в нескольких милях. Вам кажется, вы можете догнать его, но вы никогда не догоните его, потому что он — всего лишь иллюзия.
Земля и небо нище не встречаются. В тот момент, когда вы достигаете точки, где был горизонт, горизонт отодвинется далеко вперед. Расстояние между вами и горизонтом всегда остается одинаковым, оно неизменно. В этом красота жизни — она все время растет, и этому нет конца; она всегда жива и не знает никакой смерти — она вечна.
Но эта вечность возможна только если человеческое стремление всегда направлено за пределы себя, так что он всегда думает: как превзойти себя? Как дальше уйти от животного и приблизиться к Богу, если Он есть? Вот почему Заратустра сказал: «Человек — это канат, натянутый между животным и Сверхчеловеком. Он — мост, и вы не должны строить свой дом на мосту — мост существует для перехода».
В тот день, когда человек перестает совершать ошибки, он также перестает учиться. Именно путем ошибок вы открываете новые области жизни; именно благодаря ошибкам вы становитесь зрелыми; именно через ошибки приходит мудрость; именно на ошибках развивается человечество.
Новый человек может дать вам новую жизнь, новое пространство для движения, новое измерение, новое направление. Это будет движение внутрь. Тысячи лет мы двигались вовне. Мы слишком далеко ушли от самих себя.
Пришло время, когда мы должны вернуться домой и посмотреть внутрь своего существа, потому что внутри нашего собственного существа находится все, что мы ищем снаружи. Мы не найдем это снаружи, его там нет. Оно здесь.
О ПРЕЗИРАЮЩИХ ТЕЛО
За мыслями и чувствами твоими, брат мой, стоит могущественный господин, неведомый мудрец — Самость имя ему. В твоем теле живет он, он и есть тело твое.
В теле больше разума, нежели в высшей мудрости твоей. И кто знает, зачем вообще нужна телу высшая мудрость? ...
Тело и дух, материя и энергия — одно и то же. Существование не дуально; это органичное целое.
…Превращения, о которых говорит Заратустра, — это вопрос напряженного понимания
https://yandex.ru/video/preview/9683916335154278478
https://rutube.ru/audio/ead96cb25e1ba9e ... 4152200319
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
Психологические аспекты буддизма - (Абаев и др.)
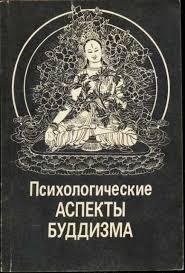
Н.В.Абаев
КОНЦЕПЦИЯ "ПРОСВЕТЛЕНИЯ" В "МАХАЯНА-ШРАДДХОТПАДА-ШАСТРЕ"
В "Шраддхотпада-шастре" последовательность и систематичность изложения сочетаются со стремлением синтезировать в единое, логически непротиворечивое учение основополагающие концепции буддизма махаяны, которые возникли и развились независимо друг от друга в рамках разных махаянских школ и кажутся несовместимыми, взаимоисключающими друг друга (например, концепции татхагата-гарбхи, алаявиджняны и шуньяты). этот трактат представляет собой "исчерпывающее резюме основ буддизма махаяны, продукт ума с незаурядной способностью к синтезу".
... Это означает, что если первый аспект сознания находится в нераздельном единстве с истинной реальностью и есть его истинно сущий аспект, то второй не обладает истинной сущностью и находится в противоречии с реальностью, с тем, что "есть на самом деле", т.е. с татхатой. Под этим подразумевается, что с уровня "неомраченного" сознания все вещи и явления видятся "такими, какие они есть на самом деле", а не такими, какими их воспринимает "омраченное" сознание. Поэтому термин "сознание татхаты" можно перевести как "сознание истинной таковости", имея в виду, что этот аспект сознания воспринимает мир "таким, какой он есть", т.е. совершенно адекватно и непосредственно.
Цзунми (774-841) писал:
"Изначально [во всех существах] имеется единая истинная и духовная природа, которая никогда не рождается и не исчезает, не увеличивается и не уменьшается. Она не подвержена ни изменениям, ни разрушению. Однако живые существа, с незапамятных времен погруженные в грезы сновидений, не осознают ее существование. Поскольку она скрыта и омрачена, она называется татхагата-гарбхой".
Из этих пояснений следует, что татхагата-гарбха как таковая, т.е. изначально "чистый" аспект сознания живых существ, полностью тождественна истинной реальности (татхате), но когда употребляется именно этот термин (т.е. татхагата-гарбха), то речь идет о латентной форме ее существования во внешне "омраченном" сознании живых существ. Вместе с тем поскольку сама сущность татхагаты-гарбхи никогда не утрачивает и принципиально не может утратить идентичность с татхатой, то хотя она может быть внешне и "омрачена", но всегда сохраняет свои сущностные свойства, идентичные "совершенным свойствам" татхаты.
"Татхагата-гарбха изначально содержит в себе только чистые достижения-добродетели, которых больше, чем песчинок в Ганге, и которые неотъемлемы от татхаты, не отделяются от нее и не отличаются от нее. Все загрязненные дхармы, омраченные страстями, количество которых превосходит число песчинок в Ганге, существуют лишь иллюзорно, по своей природе они изначально не существуют и с безначального времени никогда не были связаны с татхатой", ("Шраддхотпада-шастра")
Поэтому если от второго аспекта сознания можно избавиться путем психической саморегуляции и соблюдения этических предписаний, то первый аспект неуничтожим и всегда присутствует в полной мере даже в самом "омраченном" состоянии.
"Сущность татхаты никогда не прибывает и не убывает ни в ком: ни в обычных людях, ни в бодхисаттвах, ни в буддах. Она не зародилась когда-то в прошлом и не исчезнет когда-нибудь в будущем, ибо она вечна и будет пребывать всегда".
Поскольку основа для "просветления" существует внутри сознания человека, то "просветление" не представляет собой победу или насилие над своим сознанием, а, скорее, есть возвращение к его истинному, самому естественному и нормальному состоянию. Это не означает и уничтожение "омраченного" аспекта сознания в онтологическом смысле, так как утверждается, что он реально не существует, не имеет онтологического статуса, и, следовательно, нельзя уничтожить то, чего нет на самом деле. Необходимо лишь не поддаваться этой иллюзии, не воспринимать ее как нечто реальное и не идентифицировать себя с нею, "отстраняясь" и тем самым освобождаясь от нее. Вследствие этого "исчезает" не некий субстрат (или составная часть сознания), а только его внешние признаки, ложно воспринимаемые как нечто реальное и условно называемые его "непросветленным" аспектом, который перестает для него существовать, когда сознание перестает идентифицировать себя с этим аспектом.
"То, что говорится об уничтожении, есть лишь исчезновение внешних признаков сознания, но не уничтожение его сущности", –под признаками имеется в виду "неведение", а под сущностью – "мудрость", свойственная "неомраченному" аспекту сознания. Это положение иллюстрируется образом ветра, символизирующего "неведение", и вздымаемых им волн, символизирующих активность "непросветленного" аспекта сознания, исчезновение которых не означает, что исчезает сама субстанция воды или какая-то ее часть:
"...Если только ветер исчезнет, то соответственно исчезнет и движение волн. Но это не есть исчезновение [самой субстанции] воды. Точно так же и с неведением. На основе сущности сознания возникает движение (т. е. возбуждение сознания)... Но поскольку сущность не исчезает, то сознание может существовать непрерывно. Только потому, что глупость исчезает, соответственно исчезают и признаки [омраченного] сознания. Но мудрость сознания [никогда] не исчезает".
Тем не менее поскольку для "непросветленного" человека иллюзорный аспект его сознания существует вполне реально, то отмечается, что в сугубо гносеологическом смысле все-таки можно говорить об "уничтожении" этого аспекта, подразумевая такое изменение установок, когда сознание начинает воспринимать эту иллюзию более "правильно", т.е. как нечто реально не существующее. Иначе говоря, когда сознание перестает идентифицировать себя с "омраченным" аспектом, то прекращается и его "омрачающее" воздействие, а значит, и его существование как чего-то реального. Это означает также "уничтожение" или "искоренение" привязанности к внешним формам и признакам всех вещей и явлений, которые есть продукт "омраченного" сознания, и прежде всего привязанности к самому "омраченному" сознанию. При этом должна быть уничтожена и привязанность к признакам "просветленного" сознания, которые являются такой же иллюзией, как и все другие признаки, и привязанность ко всем другим признакам. "Омраченное" сознание есть лишь иллюзорный признак "истинного" сознания, но таким же признаком, только противопоставленным первому, является "просветленное" сознание, тогда как истинная природа и сущность сознания лишены каких-либо признаков. Эти аспекты – "просветленный" и "непросветленный" – две половинки или полярные элементы одной пары оппозиций, смысл которых устанавливается в противопоставлении их друг другу и раскрывается относительно друг друга. В то же время они дополняют друг друга и не могут существовать отдельно, независимо друг от друга. Поэтому в шастре утверждается, что они "не едины и в то же время не отличаются друг от друга".
"Все признаки сознания омрачены неведением. Однако признаки неведения не отделяются от природы просветления, и потому его нельзя уничтожить, но в то же время оно не может быть не уничтожено. Это подобно воде в океане, волны которого вздымаются под действием ветра. Признаки воды и признаки ветра неотделимы друг от друга, но вода обладает подвижной природой, и если ветер прекращается, то признаки движения волн тоже прекращаются, хотя природа воды, сущность которой мокрота ("мокротная сущность воды"), не уничтожается. Подобно этому, сознание человека, чистое по самой своей природе, приходит в движение (т.е. возбуждается) под воздействием ветра неведения. Однако как сознание, так и неведение не имеют отдельных форм (т.е. внешнего вида, облика) и отличительных признаков, и они нераздельны друг с другом. Сознание обладает неподвижной природой, и если неведение исчезает, то поток [ложной активности] тоже прекращается. Но природа мудрости [всегда] остается неизменной и [никогда] не исчезает"
Таким образом, если "омраченный" аспект не есть нечто отдельное от второго, "просветленного", аспекта и оба они существуют лишь относительно друг друга, то "нежелательный" с точки зрения буддийской сотериологии аспект сознания не может быть окончательно уничтожен (в указанном выше смысле) сам по себе, т.е. отдельно от "просветленного" аспекта.
"Но если он совершенно освободится от [самого понятия] направления, то не будет и заблуждения (т.е. не будет того, от чего можно отклониться). Точно так же и живые существа приходят в заблуждение из-за привязанности к просветлению. Но если они освободятся от [привязанности к] просветлению, то не будет и непросветления"
Более того, от "омраченного" аспекта сознания нельзя окончательно избавиться, не освободившись от всей дихотомической модели мира, разделяющей все явления на "чистые" и "нечистые", "благие" и "неблагие", "красивые" и "безобразные" и т.д. Поскольку все эти оппозиции и отличительные признаки существуют лишь в сознании человека, то для освобождения от привязанности к ним необходим радикальный и тотальный переворот в психической деятельности человека, в результате которого все вербальные структуры и концептуальные схемы, опирающиеся на отличительные признаки вещей и явлений действительности, начинают рассматриваться как не соответствующие "истинной" реальности, а потому "отбрасываются", "изгоняются" или "искореняются" из сознания человека. Следовательно, определенные изменения происходят в психической деятельности человека, в характере функционирования психики, но ее базисные характеристики, ее сущность и основа или, иначе говоря, ее истинная природа остаются неизменными, как и истинная реальность всех вещей и явлений, которая всегда остается такой, какая она есть.
Но если сущность сознания всегда остается неизменной и принципиально не может быть "омрачена", то откуда вообще возникает "непросветленный" аспект сознания и почему он все-таки может оказывать свое "омрачающее" воздействие на изначально чистое сознание? В шастре отмечается, что "неведение", как и "просветление", существует вечно, с "безначального времени", и что ложные мысли возникают "внезапно", т.е. спонтанно и неосознанно (непреднамеренно) Но это нельзя признать исчерпывающим объяснением причин и источника возникновения "омраченного" сознания. В шастре также отмечается, что татхагата-гарбха, рассматриваемая как источник всего сущего, порождающий все дхармы – "чистые" и "нечистые", "благие" и "неблагие", является также и причиной возникновения "омраченного" сознания. Но тогда остается неясным, как и откуда оно появляется в самой татхагата-гарбхе, если утверждается, что ее сущность никогда не имела и не может иметь "омраченных" дхарм.
Поскольку сама концепция татхагата-гарбхи не позволяла дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, автор шастры использовал концепцию алаявиджняны ("сознания-хранилища", "сознания-вместилища" или "сокровищницы"). Последняя дополняет концепцию татхагата-гарбхи в ее динамическом аспекте, потому что алая рассматривается как постоянно изменяющийся поток сознания, в отличие от неизменной татхагата-гарбхи. Это "сознание-хранилище" отождествляется в шастре с относительным, обусловленным "смертями-и-рождениями" аспектом татхагата-гарбхи. В то же время в ней отмечается, что "сознание-хранилище" представляет собой взаимодействие и взаимопроникновение "сознания татхаты" (т.е. абсолютного аспекта "единого сознания") и "сознания, подверженного смертям-и-рождениям" (т.е. относительного аспекта "единого сознания") таким образом, что они одновременно не едины и не различны.
"Так называемая алаявиджняна есть то, в чем гармонично объединяются нерожденное и неуничтожимое с рождающимся и погибающим (исчезающим)". Поэтому алаявиджняна называется также "объединенным сознанием".
Поскольку алаявиджняна рассматривается как момент, в котором взаимодействуют оба аспекта сознания, она, следовательно, функционирует как динамический фактор в процессе взаимодействия и единения сознания, содержа в себе потенцию как "просветления", так и "непросветления":
"Эта алаявиджняна имеет два аспекта, охватывающие все дхармы и порождающие все дхармы: первый – это просветление, второй – непросветление".
Таким образом, автор шастры отождествляет алаявиджняну с относительным аспектом татхагата-гарбхи и в то же время утверждает, что она содержит в себе потенцию "просветления" (т.е. отождествляет ее с татхагата-гарбхой как таковой). Тем не менее она не есть нечто совершенно идентичное ни самой татхагата-гарбхе, ни ее "омраченному" аспекту, но рассматривается как воплощение непрерывного динамического процесса распадения, или "разложения истинно сущего" на два аспекта и постоянного их воссоединения. Как нечто тождественное татхагата-гарбхе, это есть почти абсолют, но абсолют, вступающий во взаимодействие со своим феноменальным аспектом, а потому не являющийся таковым в полном смысле этого слова, так как в процессе их взаимодействия происходит и их взаимовлияние и, следовательно, имеет место воздействие феноменального аспекта на абсолютный (в отличие от татхагата-гарбхи, которая принципиально не подвержена такому воздействию).
Поскольку взаимное влияние двух аспектов сопряжено с их противодействием друг другу, то алаявиджняну можно также рассматривать как область непрерывного противоборства двух начал, которое является источником ее развития и зарождения в ней все новых и новых Дхарм, в том числе "омраченных". Следовательно, в алаявиджняне находится и источник зарождения всякой скверны, "семена" которой существуют в ней извечно. Более того, поскольку происходит постоянное взаимодействие двух ее аспектов, "омраченность", возникающая из алаявиджняны, в свою очередь, обусловливает ее, образуя новые "семена".
Эти "семена" являются "отпечатками", или "следами", всех прошлых событий, поступков, желаний, идей и впечатлений, память о которых сохраняется в алаявиджняне, поэтому она и называется "сознанием-хранилищем". В индивидуальном сознании – составной части огромного "вместилища" всех сознаний – эти "отпечатки", несущие в себе силу привычки прошлых ложных представлений и идей, проявляются в виде ложной веры в реальность существования индивидуального "Я" и внешнего мира объектов. Так возникают "неведение" и "непросветленный" аспект сознания, которые "омрачают" изначально чистое сознание человека и мешают ему постичь свое единство с истинной реальностью.
Развиваясь и укрепляясь, эти ложные идеи и представления порождают привязанность к дискурсивно-логическому мышлению, которое является одним из основных факторов, "омрачающих" сознание человека и приводящих его в противоречие с татхатой. Из-за дискурсивно-логического мышления, основанного на "различении", выделении отличительных признаков, вербализации и концептуализации вещей и явлений действительности, которые на самом деле свободны от всего этого, "омраченное" сознание не может воспринимать мир таким, какой он есть, а видит его расколотым на оппозиции, разделенным на индивидуальные признаки и формы, увешанным ярлыками с наименованиями, принимая все это за истинную реальность.
"Все дхармы, – говорится в шастре, – изначально лишены всех вербальных признаков, всех форм описания, обозначения и наименования, всех форм концептуализации, и в конечном итоге все они равны друг другу (т.е. ничем не отличаются друг от друга) не подвержены изменчивости и не могут быть уничтожены. [Все это] есть лишь единое сознание, поэтому и называется "истинной таковостью""
Последовательно развивая тезис о том, что вербализация и концептуализация искажают реальную действительность, автор шастры утверждает, что даже само слово "татхата" используется лишь для того, чтобы завершить собой процесс вербализации, указать на некую вневербальную реальность, тождественную самой себе и принципиально неописуемую посредством слов или знаков:
"Все вербальные объяснения условны и неистинны, ибо они лишь следуют за ложными мыслями и не в состоянии [отражать реальность]. Слово "истинная таковость" (бхута-татхата) тоже не имеет признаков. Оно является пределом словесных объяснений, словом, которое кладет конец всем словам. В то же время нет ничего, что можно установить [как реально существующее], ибо все вещи и явления тождественны татхате. [Таким образом], следует знать, что никакую вещь невозможно объяснить с помощью слов или постичь с помощью мыслей. Отсюда и название "татхата"".
"Поскольку сознание существ омрачено неведением, возникает мышление и они отходят от [истинной таковости], поэтому и говорится "пустота". Но если они освободятся от омраченного сознания, то в действительности не будет ничего, о чем можно говорить "пустота"".
"Истинная не-пустота" как атрибут татхаты характеризуется в шастре следующим образом:
"Поскольку сущность дхарм пустотна и не омрачена неведением, то это истинное сознание является вечным, неизменным, чистым и самодостаточным. Поэтому оно называется "не-пустотой". В то же время оно не имеет признаков, которые можно выделить, ибо это есть сфера (мир), которая свободна от мыслей и находится в гармоничном единстве с просветлением"
Определяя татхату как вневербальное единство бытия, свободное от мыслей и тождественное "просветленному" аспекту сознания, автор шастры утверждает, что для достижения "просветленного" состояния необходимо лишь освободиться от ложного мышления, "омрачающего" изначально чистое по своей природе сознание "истинной таковости":
"Сознание бхута-татхаты есть единый мир дхарм (дхарма-дхату) и сущность всей совокупности вещей и явлений (дхарм). Так называемая [истинная] природа сознания [никогда] не рождается и не исчезает. И только из-за ложных мыслей возникает различение всех вещей и явлений. Но если освободить сознание от [ложных] мыслей, то не будет признаков внешних объектов" [4, с. 9].
В шастре поясняется, что под освобождением от ложных мыслей подразумевается непосредственное созерцание того, что находится за пределами мыслей, т.е. вневербальной реальности, и подлинная идентификация, единение с этой реальностью. В этом состоянии полного слияния с истинной реальностью исчезают все различия между субъектом и объектом восприятия или реагирования, все отличительные признаки вещей и явлений.
"Если постичь это, – говорится в шастре, – то не будет ни того, кто может говорить, ни того, о чем можно говорить. Точно так же, о чем бы вы не мыслили, не будет ни того, кто может мыслить, ни того, о чем можно мыслить"
Такое переживание тотального единства и целостности бытия и есть "просветление", которое человек должен обрести либо с помощью практики, либо в процессе спонтанного и внезапного "озарения".
Шастра выделяет три основных вида "просветления", оговаривая при этом, что такое разделение условно, так как природа "просветления" едина и тождественна абсолютному аспекту сознания. Первый вид – это "фундаментальное просветление" т.е. внутренне присущее всему живому, имманентно чистое сознание, которое изначально "просветляет" все сущее. Но поскольку живые существа "омрачены" неведением, то оно наличествует в них как потенция, которую необходимо реализовать. Поэтому оно определяется как сама сущность и основа сознания, свободного от мышления, т.е. того "просветления", которое эти существа должны реализовать, и уподобляется всеобъемлющей, всепроникающей пустоте, которая охватывает и проницает все сущее, которая "есть везде".
"Фундаментальное просветление" определяется также как единый и всеобщий признак всего многообразия феноменального мира (дхарма-дхату) и идентифицируется с дхармакаей, атрибутом которой является "всеобщая одинаковост, ьнесмотря на все многообразие форм явленного мира. Поскольку оно идентично дхармакае, служащей базисом для самореализации потенции к "просветлению", то оно и определяется как "фундаментальное", базисное по отношению ко второму виду просветления – "начальному просветлению".
под "начальным просветлением" подразумеваются начальные или ранние стадии реализации "фундаментального просветления", который должен завершиться полным и окончательным "просветлением" всех аспектов сознания человека.
В шастре выделяется и такая стадия, когда человек "пробуждается", осознает преходящий характер существования своих мыслей, их изменчивость и неустойчивость и его мысли больше не задерживаются на объектах, не привязываются к ним. Такое "просветление" характеризуется как близкое к истинному, почти соответствующее ему.
Определение этих стадий как "неокончательного просветления" мотивируется в тем, что все они еще не являются "просветлением" самих "истоков сознания", т.е. не означают полного и тотального переворота глубинных основ человеческой психики, который носит необратимый характер и в результате которого искореняются сами предпосылки возникновения "омрачающих" факторов психической деятельности.
Соответственно "просветление истоков сознания" называется "окончательным просветлением" (цзюцзин-цзюэ). Это третий основной вид "просветления", выделяемый в шастре. "Окончательное просветление" описывается в шастре как состояние, когда в каждое мгновение мысли находится в гармоничном единстве с татхатой и может непосредственно созерцать истинную природу своего сознания; когда он твердо осознал, что его сознание вечно и неизменно.
Культивирующий усердие не должен проявлять леность Ему нужно всегда помнить, что в течение многих прошлых перерождений напрасно претерпел все великие страдания тела и сознания, от которых не было никакой пользы.
особый интерес представляет пятый вид практических методов достижения описываемый в шастре, – "прекращение [иллюзий] и [чистое] созерцание": "шаматха" и "випашьяна". В китайском переводе термина "шаматха" (прекращение, остановка), который употребляется в шастре, передано не буквальное его значение, а основной смысл, который заключается в прекращении воздействия на психику человека всех возбуждающих и "омрачающих" факторов, в результате чего достигается спокойно-умиротворенное состояние сознания.
В шастре признается, что освободиться от страданий очень трудно и что в массе своей эти существа даже не осознают своих страданий и, следовательно, не могут сами избавиться от них.
По словам О. О. Розенберга, "история буддийских учений является процессом упрощений, вытекающих из стремления найти более легкий путь к достижению нирваны"
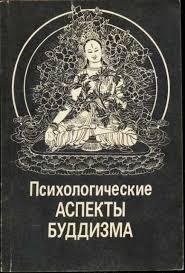
Н.В.Абаев
КОНЦЕПЦИЯ "ПРОСВЕТЛЕНИЯ" В "МАХАЯНА-ШРАДДХОТПАДА-ШАСТРЕ"
В "Шраддхотпада-шастре" последовательность и систематичность изложения сочетаются со стремлением синтезировать в единое, логически непротиворечивое учение основополагающие концепции буддизма махаяны, которые возникли и развились независимо друг от друга в рамках разных махаянских школ и кажутся несовместимыми, взаимоисключающими друг друга (например, концепции татхагата-гарбхи, алаявиджняны и шуньяты). этот трактат представляет собой "исчерпывающее резюме основ буддизма махаяны, продукт ума с незаурядной способностью к синтезу".
... Это означает, что если первый аспект сознания находится в нераздельном единстве с истинной реальностью и есть его истинно сущий аспект, то второй не обладает истинной сущностью и находится в противоречии с реальностью, с тем, что "есть на самом деле", т.е. с татхатой. Под этим подразумевается, что с уровня "неомраченного" сознания все вещи и явления видятся "такими, какие они есть на самом деле", а не такими, какими их воспринимает "омраченное" сознание. Поэтому термин "сознание татхаты" можно перевести как "сознание истинной таковости", имея в виду, что этот аспект сознания воспринимает мир "таким, какой он есть", т.е. совершенно адекватно и непосредственно.
Цзунми (774-841) писал:
"Изначально [во всех существах] имеется единая истинная и духовная природа, которая никогда не рождается и не исчезает, не увеличивается и не уменьшается. Она не подвержена ни изменениям, ни разрушению. Однако живые существа, с незапамятных времен погруженные в грезы сновидений, не осознают ее существование. Поскольку она скрыта и омрачена, она называется татхагата-гарбхой".
Из этих пояснений следует, что татхагата-гарбха как таковая, т.е. изначально "чистый" аспект сознания живых существ, полностью тождественна истинной реальности (татхате), но когда употребляется именно этот термин (т.е. татхагата-гарбха), то речь идет о латентной форме ее существования во внешне "омраченном" сознании живых существ. Вместе с тем поскольку сама сущность татхагаты-гарбхи никогда не утрачивает и принципиально не может утратить идентичность с татхатой, то хотя она может быть внешне и "омрачена", но всегда сохраняет свои сущностные свойства, идентичные "совершенным свойствам" татхаты.
"Татхагата-гарбха изначально содержит в себе только чистые достижения-добродетели, которых больше, чем песчинок в Ганге, и которые неотъемлемы от татхаты, не отделяются от нее и не отличаются от нее. Все загрязненные дхармы, омраченные страстями, количество которых превосходит число песчинок в Ганге, существуют лишь иллюзорно, по своей природе они изначально не существуют и с безначального времени никогда не были связаны с татхатой", ("Шраддхотпада-шастра")
Поэтому если от второго аспекта сознания можно избавиться путем психической саморегуляции и соблюдения этических предписаний, то первый аспект неуничтожим и всегда присутствует в полной мере даже в самом "омраченном" состоянии.
"Сущность татхаты никогда не прибывает и не убывает ни в ком: ни в обычных людях, ни в бодхисаттвах, ни в буддах. Она не зародилась когда-то в прошлом и не исчезнет когда-нибудь в будущем, ибо она вечна и будет пребывать всегда".
Поскольку основа для "просветления" существует внутри сознания человека, то "просветление" не представляет собой победу или насилие над своим сознанием, а, скорее, есть возвращение к его истинному, самому естественному и нормальному состоянию. Это не означает и уничтожение "омраченного" аспекта сознания в онтологическом смысле, так как утверждается, что он реально не существует, не имеет онтологического статуса, и, следовательно, нельзя уничтожить то, чего нет на самом деле. Необходимо лишь не поддаваться этой иллюзии, не воспринимать ее как нечто реальное и не идентифицировать себя с нею, "отстраняясь" и тем самым освобождаясь от нее. Вследствие этого "исчезает" не некий субстрат (или составная часть сознания), а только его внешние признаки, ложно воспринимаемые как нечто реальное и условно называемые его "непросветленным" аспектом, который перестает для него существовать, когда сознание перестает идентифицировать себя с этим аспектом.
"То, что говорится об уничтожении, есть лишь исчезновение внешних признаков сознания, но не уничтожение его сущности", –под признаками имеется в виду "неведение", а под сущностью – "мудрость", свойственная "неомраченному" аспекту сознания. Это положение иллюстрируется образом ветра, символизирующего "неведение", и вздымаемых им волн, символизирующих активность "непросветленного" аспекта сознания, исчезновение которых не означает, что исчезает сама субстанция воды или какая-то ее часть:
"...Если только ветер исчезнет, то соответственно исчезнет и движение волн. Но это не есть исчезновение [самой субстанции] воды. Точно так же и с неведением. На основе сущности сознания возникает движение (т. е. возбуждение сознания)... Но поскольку сущность не исчезает, то сознание может существовать непрерывно. Только потому, что глупость исчезает, соответственно исчезают и признаки [омраченного] сознания. Но мудрость сознания [никогда] не исчезает".
Тем не менее поскольку для "непросветленного" человека иллюзорный аспект его сознания существует вполне реально, то отмечается, что в сугубо гносеологическом смысле все-таки можно говорить об "уничтожении" этого аспекта, подразумевая такое изменение установок, когда сознание начинает воспринимать эту иллюзию более "правильно", т.е. как нечто реально не существующее. Иначе говоря, когда сознание перестает идентифицировать себя с "омраченным" аспектом, то прекращается и его "омрачающее" воздействие, а значит, и его существование как чего-то реального. Это означает также "уничтожение" или "искоренение" привязанности к внешним формам и признакам всех вещей и явлений, которые есть продукт "омраченного" сознания, и прежде всего привязанности к самому "омраченному" сознанию. При этом должна быть уничтожена и привязанность к признакам "просветленного" сознания, которые являются такой же иллюзией, как и все другие признаки, и привязанность ко всем другим признакам. "Омраченное" сознание есть лишь иллюзорный признак "истинного" сознания, но таким же признаком, только противопоставленным первому, является "просветленное" сознание, тогда как истинная природа и сущность сознания лишены каких-либо признаков. Эти аспекты – "просветленный" и "непросветленный" – две половинки или полярные элементы одной пары оппозиций, смысл которых устанавливается в противопоставлении их друг другу и раскрывается относительно друг друга. В то же время они дополняют друг друга и не могут существовать отдельно, независимо друг от друга. Поэтому в шастре утверждается, что они "не едины и в то же время не отличаются друг от друга".
"Все признаки сознания омрачены неведением. Однако признаки неведения не отделяются от природы просветления, и потому его нельзя уничтожить, но в то же время оно не может быть не уничтожено. Это подобно воде в океане, волны которого вздымаются под действием ветра. Признаки воды и признаки ветра неотделимы друг от друга, но вода обладает подвижной природой, и если ветер прекращается, то признаки движения волн тоже прекращаются, хотя природа воды, сущность которой мокрота ("мокротная сущность воды"), не уничтожается. Подобно этому, сознание человека, чистое по самой своей природе, приходит в движение (т.е. возбуждается) под воздействием ветра неведения. Однако как сознание, так и неведение не имеют отдельных форм (т.е. внешнего вида, облика) и отличительных признаков, и они нераздельны друг с другом. Сознание обладает неподвижной природой, и если неведение исчезает, то поток [ложной активности] тоже прекращается. Но природа мудрости [всегда] остается неизменной и [никогда] не исчезает"
Таким образом, если "омраченный" аспект не есть нечто отдельное от второго, "просветленного", аспекта и оба они существуют лишь относительно друг друга, то "нежелательный" с точки зрения буддийской сотериологии аспект сознания не может быть окончательно уничтожен (в указанном выше смысле) сам по себе, т.е. отдельно от "просветленного" аспекта.
"Но если он совершенно освободится от [самого понятия] направления, то не будет и заблуждения (т.е. не будет того, от чего можно отклониться). Точно так же и живые существа приходят в заблуждение из-за привязанности к просветлению. Но если они освободятся от [привязанности к] просветлению, то не будет и непросветления"
Более того, от "омраченного" аспекта сознания нельзя окончательно избавиться, не освободившись от всей дихотомической модели мира, разделяющей все явления на "чистые" и "нечистые", "благие" и "неблагие", "красивые" и "безобразные" и т.д. Поскольку все эти оппозиции и отличительные признаки существуют лишь в сознании человека, то для освобождения от привязанности к ним необходим радикальный и тотальный переворот в психической деятельности человека, в результате которого все вербальные структуры и концептуальные схемы, опирающиеся на отличительные признаки вещей и явлений действительности, начинают рассматриваться как не соответствующие "истинной" реальности, а потому "отбрасываются", "изгоняются" или "искореняются" из сознания человека. Следовательно, определенные изменения происходят в психической деятельности человека, в характере функционирования психики, но ее базисные характеристики, ее сущность и основа или, иначе говоря, ее истинная природа остаются неизменными, как и истинная реальность всех вещей и явлений, которая всегда остается такой, какая она есть.
Но если сущность сознания всегда остается неизменной и принципиально не может быть "омрачена", то откуда вообще возникает "непросветленный" аспект сознания и почему он все-таки может оказывать свое "омрачающее" воздействие на изначально чистое сознание? В шастре отмечается, что "неведение", как и "просветление", существует вечно, с "безначального времени", и что ложные мысли возникают "внезапно", т.е. спонтанно и неосознанно (непреднамеренно) Но это нельзя признать исчерпывающим объяснением причин и источника возникновения "омраченного" сознания. В шастре также отмечается, что татхагата-гарбха, рассматриваемая как источник всего сущего, порождающий все дхармы – "чистые" и "нечистые", "благие" и "неблагие", является также и причиной возникновения "омраченного" сознания. Но тогда остается неясным, как и откуда оно появляется в самой татхагата-гарбхе, если утверждается, что ее сущность никогда не имела и не может иметь "омраченных" дхарм.
Поскольку сама концепция татхагата-гарбхи не позволяла дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, автор шастры использовал концепцию алаявиджняны ("сознания-хранилища", "сознания-вместилища" или "сокровищницы"). Последняя дополняет концепцию татхагата-гарбхи в ее динамическом аспекте, потому что алая рассматривается как постоянно изменяющийся поток сознания, в отличие от неизменной татхагата-гарбхи. Это "сознание-хранилище" отождествляется в шастре с относительным, обусловленным "смертями-и-рождениями" аспектом татхагата-гарбхи. В то же время в ней отмечается, что "сознание-хранилище" представляет собой взаимодействие и взаимопроникновение "сознания татхаты" (т.е. абсолютного аспекта "единого сознания") и "сознания, подверженного смертям-и-рождениям" (т.е. относительного аспекта "единого сознания") таким образом, что они одновременно не едины и не различны.
"Так называемая алаявиджняна есть то, в чем гармонично объединяются нерожденное и неуничтожимое с рождающимся и погибающим (исчезающим)". Поэтому алаявиджняна называется также "объединенным сознанием".
Поскольку алаявиджняна рассматривается как момент, в котором взаимодействуют оба аспекта сознания, она, следовательно, функционирует как динамический фактор в процессе взаимодействия и единения сознания, содержа в себе потенцию как "просветления", так и "непросветления":
"Эта алаявиджняна имеет два аспекта, охватывающие все дхармы и порождающие все дхармы: первый – это просветление, второй – непросветление".
Таким образом, автор шастры отождествляет алаявиджняну с относительным аспектом татхагата-гарбхи и в то же время утверждает, что она содержит в себе потенцию "просветления" (т.е. отождествляет ее с татхагата-гарбхой как таковой). Тем не менее она не есть нечто совершенно идентичное ни самой татхагата-гарбхе, ни ее "омраченному" аспекту, но рассматривается как воплощение непрерывного динамического процесса распадения, или "разложения истинно сущего" на два аспекта и постоянного их воссоединения. Как нечто тождественное татхагата-гарбхе, это есть почти абсолют, но абсолют, вступающий во взаимодействие со своим феноменальным аспектом, а потому не являющийся таковым в полном смысле этого слова, так как в процессе их взаимодействия происходит и их взаимовлияние и, следовательно, имеет место воздействие феноменального аспекта на абсолютный (в отличие от татхагата-гарбхи, которая принципиально не подвержена такому воздействию).
Поскольку взаимное влияние двух аспектов сопряжено с их противодействием друг другу, то алаявиджняну можно также рассматривать как область непрерывного противоборства двух начал, которое является источником ее развития и зарождения в ней все новых и новых Дхарм, в том числе "омраченных". Следовательно, в алаявиджняне находится и источник зарождения всякой скверны, "семена" которой существуют в ней извечно. Более того, поскольку происходит постоянное взаимодействие двух ее аспектов, "омраченность", возникающая из алаявиджняны, в свою очередь, обусловливает ее, образуя новые "семена".
Эти "семена" являются "отпечатками", или "следами", всех прошлых событий, поступков, желаний, идей и впечатлений, память о которых сохраняется в алаявиджняне, поэтому она и называется "сознанием-хранилищем". В индивидуальном сознании – составной части огромного "вместилища" всех сознаний – эти "отпечатки", несущие в себе силу привычки прошлых ложных представлений и идей, проявляются в виде ложной веры в реальность существования индивидуального "Я" и внешнего мира объектов. Так возникают "неведение" и "непросветленный" аспект сознания, которые "омрачают" изначально чистое сознание человека и мешают ему постичь свое единство с истинной реальностью.
Развиваясь и укрепляясь, эти ложные идеи и представления порождают привязанность к дискурсивно-логическому мышлению, которое является одним из основных факторов, "омрачающих" сознание человека и приводящих его в противоречие с татхатой. Из-за дискурсивно-логического мышления, основанного на "различении", выделении отличительных признаков, вербализации и концептуализации вещей и явлений действительности, которые на самом деле свободны от всего этого, "омраченное" сознание не может воспринимать мир таким, какой он есть, а видит его расколотым на оппозиции, разделенным на индивидуальные признаки и формы, увешанным ярлыками с наименованиями, принимая все это за истинную реальность.
"Все дхармы, – говорится в шастре, – изначально лишены всех вербальных признаков, всех форм описания, обозначения и наименования, всех форм концептуализации, и в конечном итоге все они равны друг другу (т.е. ничем не отличаются друг от друга) не подвержены изменчивости и не могут быть уничтожены. [Все это] есть лишь единое сознание, поэтому и называется "истинной таковостью""
Последовательно развивая тезис о том, что вербализация и концептуализация искажают реальную действительность, автор шастры утверждает, что даже само слово "татхата" используется лишь для того, чтобы завершить собой процесс вербализации, указать на некую вневербальную реальность, тождественную самой себе и принципиально неописуемую посредством слов или знаков:
"Все вербальные объяснения условны и неистинны, ибо они лишь следуют за ложными мыслями и не в состоянии [отражать реальность]. Слово "истинная таковость" (бхута-татхата) тоже не имеет признаков. Оно является пределом словесных объяснений, словом, которое кладет конец всем словам. В то же время нет ничего, что можно установить [как реально существующее], ибо все вещи и явления тождественны татхате. [Таким образом], следует знать, что никакую вещь невозможно объяснить с помощью слов или постичь с помощью мыслей. Отсюда и название "татхата"".
"Поскольку сознание существ омрачено неведением, возникает мышление и они отходят от [истинной таковости], поэтому и говорится "пустота". Но если они освободятся от омраченного сознания, то в действительности не будет ничего, о чем можно говорить "пустота"".
"Истинная не-пустота" как атрибут татхаты характеризуется в шастре следующим образом:
"Поскольку сущность дхарм пустотна и не омрачена неведением, то это истинное сознание является вечным, неизменным, чистым и самодостаточным. Поэтому оно называется "не-пустотой". В то же время оно не имеет признаков, которые можно выделить, ибо это есть сфера (мир), которая свободна от мыслей и находится в гармоничном единстве с просветлением"
Определяя татхату как вневербальное единство бытия, свободное от мыслей и тождественное "просветленному" аспекту сознания, автор шастры утверждает, что для достижения "просветленного" состояния необходимо лишь освободиться от ложного мышления, "омрачающего" изначально чистое по своей природе сознание "истинной таковости":
"Сознание бхута-татхаты есть единый мир дхарм (дхарма-дхату) и сущность всей совокупности вещей и явлений (дхарм). Так называемая [истинная] природа сознания [никогда] не рождается и не исчезает. И только из-за ложных мыслей возникает различение всех вещей и явлений. Но если освободить сознание от [ложных] мыслей, то не будет признаков внешних объектов" [4, с. 9].
В шастре поясняется, что под освобождением от ложных мыслей подразумевается непосредственное созерцание того, что находится за пределами мыслей, т.е. вневербальной реальности, и подлинная идентификация, единение с этой реальностью. В этом состоянии полного слияния с истинной реальностью исчезают все различия между субъектом и объектом восприятия или реагирования, все отличительные признаки вещей и явлений.
"Если постичь это, – говорится в шастре, – то не будет ни того, кто может говорить, ни того, о чем можно говорить. Точно так же, о чем бы вы не мыслили, не будет ни того, кто может мыслить, ни того, о чем можно мыслить"
Такое переживание тотального единства и целостности бытия и есть "просветление", которое человек должен обрести либо с помощью практики, либо в процессе спонтанного и внезапного "озарения".
Шастра выделяет три основных вида "просветления", оговаривая при этом, что такое разделение условно, так как природа "просветления" едина и тождественна абсолютному аспекту сознания. Первый вид – это "фундаментальное просветление" т.е. внутренне присущее всему живому, имманентно чистое сознание, которое изначально "просветляет" все сущее. Но поскольку живые существа "омрачены" неведением, то оно наличествует в них как потенция, которую необходимо реализовать. Поэтому оно определяется как сама сущность и основа сознания, свободного от мышления, т.е. того "просветления", которое эти существа должны реализовать, и уподобляется всеобъемлющей, всепроникающей пустоте, которая охватывает и проницает все сущее, которая "есть везде".
"Фундаментальное просветление" определяется также как единый и всеобщий признак всего многообразия феноменального мира (дхарма-дхату) и идентифицируется с дхармакаей, атрибутом которой является "всеобщая одинаковост, ьнесмотря на все многообразие форм явленного мира. Поскольку оно идентично дхармакае, служащей базисом для самореализации потенции к "просветлению", то оно и определяется как "фундаментальное", базисное по отношению ко второму виду просветления – "начальному просветлению".
под "начальным просветлением" подразумеваются начальные или ранние стадии реализации "фундаментального просветления", который должен завершиться полным и окончательным "просветлением" всех аспектов сознания человека.
В шастре выделяется и такая стадия, когда человек "пробуждается", осознает преходящий характер существования своих мыслей, их изменчивость и неустойчивость и его мысли больше не задерживаются на объектах, не привязываются к ним. Такое "просветление" характеризуется как близкое к истинному, почти соответствующее ему.
Определение этих стадий как "неокончательного просветления" мотивируется в тем, что все они еще не являются "просветлением" самих "истоков сознания", т.е. не означают полного и тотального переворота глубинных основ человеческой психики, который носит необратимый характер и в результате которого искореняются сами предпосылки возникновения "омрачающих" факторов психической деятельности.
Соответственно "просветление истоков сознания" называется "окончательным просветлением" (цзюцзин-цзюэ). Это третий основной вид "просветления", выделяемый в шастре. "Окончательное просветление" описывается в шастре как состояние, когда в каждое мгновение мысли находится в гармоничном единстве с татхатой и может непосредственно созерцать истинную природу своего сознания; когда он твердо осознал, что его сознание вечно и неизменно.
Культивирующий усердие не должен проявлять леность Ему нужно всегда помнить, что в течение многих прошлых перерождений напрасно претерпел все великие страдания тела и сознания, от которых не было никакой пользы.
особый интерес представляет пятый вид практических методов достижения описываемый в шастре, – "прекращение [иллюзий] и [чистое] созерцание": "шаматха" и "випашьяна". В китайском переводе термина "шаматха" (прекращение, остановка), который употребляется в шастре, передано не буквальное его значение, а основной смысл, который заключается в прекращении воздействия на психику человека всех возбуждающих и "омрачающих" факторов, в результате чего достигается спокойно-умиротворенное состояние сознания.
В шастре признается, что освободиться от страданий очень трудно и что в массе своей эти существа даже не осознают своих страданий и, следовательно, не могут сами избавиться от них.
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
В.Н.Пупышев
"HE-Я" В БУДДИЙСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Иначе что же тогда перерождается, что переходит из воплощения в воплощение?
На это следует дать один ответ – ничего. Как при жизни существа нет ничего конкретного, кроме преемственности пустых форм, ложно принимаемых за "я", "как призрак красавицы внушает страсть тем, кто не понял его природы" (Чандракирти), так же и в момент смерти, в промежуточном состоянии после смерти и в новом рождении нет ничего, кроме преемственности пустых форм. Самое главное неведение, как утверждают буддисты, есть неведение в отношении несуществования индивидуального "Я". Четвертый махаянистический путь – путь созерцания (sgom lam) – ставит целью разрушение веры в существование индивидуального "Я" и "я" дхарм.
Однако, в силу неведения сохраняется вера в самость, в некое индивидуальное "Я", и эта вера является горючим, поддерживающим пламя потока элементов индивидуального существования, препятствует интеграции индивида в единство Нирваны, будучи подкрепляема эмоциональными аффектами неведения – омраченностью, страстью, гневом.
Итак, если считать субъектом перерождений сознание (то есть сознание "я"), частицу сверкающей (gsal) алая-виджняны, то чем в таком случае отличается учение Будды от идеализма, против которого он выступал? Ведь ни одна буддийская школа не является чисто идеалистической. Так называемый "чистый идеализм" виджнянаматриков –весьма условный, ведь алая-виджняна виджнянаматриков есть чистая длительность бытия (santäna) или сознание без какого бы то ни было содержания, т.е. шунья.
Если считать, что процесс перерождения – это всего лишь персонификация закона сохранения энергии (неважно какой), то на какой основе тогда возникает в новом рождении является неведение, элемент сознания. И почему можно сказать, что этот человек был в прошлом рождении тем-то и тем-то? Ведь не говорим же мы, что электричество было прежде движением воды в турбине электростанции. Следовательно, попытку представить какое-либо "я" вне преемственности пустых форм следует признать несостоятельной.
Высшая мудрость бодхисаттвы (ye shes), отказавшаяся от всяких мыслительных построений, в том числе конструирующих подкладку для веры в "я", мудрость, сущность которой составляет пробужденная, полная милосердия мысль, – это и есть то, что подводит бодхисаттву к чистой длительности, к дверям в Нирвану, которые суть бесконечно мудрая мысль и непоколебимая богатырская мысль.
для полной реализации бодхи необходимо единство гнозиса и праксиса, праджни и упаи – только таким образом достигается полная интеграция бытия в единстве Нирваны, снимается противоположность "я" и "не-я", субъекта и объекта, реализуется их единство в срединном пути.
В своем комментарии к Праджняпарамите Нагарджуна говорит: "Татхагата иногда учил, что Атман существует, а иногда он учил, что Атман не существует. Это учение, которое так трудно понять, Будда не предназначал для ушей тех, в ком не возрос корень блага. Почему же? Потому, что эти люди, услышав учение об ан-Атмане, несомненно, впали бы в ересь нигилизма.
шуньята шуньяты, или ясный свет Нирваны, не есть ни относительность, ни пустота:
"Она не может быть названа пустотой или не-пустотой, ни обеими вместе, ни каждой в отдельности, но для того, чтобы обозначить ее, она названа пустотой"
Вся теория "анатма" является знаком, указующим на возможность реализации истинности шуньята шуньяты. где болезненное противопоставление "я" и "не-я" снимается и ясно светит полная блаженства абсолютно чистая мысль, лишенная даже тени какого-либо заблуждения (mi rtog).
теория "анатма" не является для буддиста отвлеченным, абстрактным знанием, но служит вехой на пути индивидуального совершенствования.
Л.Е.Янгутов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ О "СПАСЕНИИ" В КИТАЙСКОМ БУДДИЗМЕ
Страдание – это постоянный атрибут человеческой жизни, более того, это форма существования индивида. Однако подобное существование не является истинным, поскольку страдание противоестественно. Поэтому необходимо избавление от данной формы существования, т.е. от страдания.
привязанность к жизни – результат неведения, допускающего мысль: "Это я, это мое". На самом деле нет такого "Я", которое составляло бы личность как таковую, наделенную эмоциями, чувствами, волей, желаниями. "Я" ложно, т.е. индивид, противопоставляющий себя окружающим его предметам внешнего мира как некую самостоятельную сущность, на самом деле не является таковым. Нет такого субстанционального начала, как "Я". Эту мысль весьма удачно выразил О. О. Розенберг:
"Мы не имеем права обособлять части общего узора и говорить: вот солнце, вот "Я". Нет солнца, нет "Я", в смысле чего-то самостоятельно существующего. Есть лишь узор: "личность, видящая солнце", одна нераздельная картина"
Таким образом, объявив страдание необходимым компонентом всякой человеческой жизни, формой существования индивида, причины страдания кроются в самом индивиде, в его неправильных воззрениях, в его жажде жизни. Избавление от собственного "Я" – вот основа основ учения о "спасении".
Как полагали буддисты, человек в процессе своих бесконечных перерождений настолько вжился в собственное "Я", что не может сразу избавиться от него. Для этого недостаточно лишь дискурсивного знания. Необходима долгая и упорная работа над собой с целью вытравливания из себя различного рода эмоций, чувств, воли, мысли и т.п., порождающих жажду жизни, необходима абсолютная свобода индивида от всего того, что связывает его с земной жизнью. А для этого нужны особые методы и рекомендации.
Избавление от иллюзии собственного "Я" стало трактоваться, с одной стороны, как избавление от иллюзии внешнего, эмпирического мира, с другой – как обнаружение истинной сущности, стоящей как за иллюзией "я", так и за иллюзией предметов. Это положение усиливалось тезисом о тождестве нирваны и сансары, согласно которому между нирваной и сансарой нет ни временных, ни пространственных границ. Индивид, находясь в сансаре, одновременно находится и в нирване. Однако нирвана недоступна ему в силу "омраченности" его сознания, порождающего иллюзию "я", а вместе с ней иллюзию внешнего мира. Нирвана, таким образом, трактуется как состояние "очищенного" сознания. Суть "спасения" заключается в приведении индивидом своего сознания в качественно новое состояние, когда перед ним отступает иллюзорный (эмпирический) мир и предстает мир истинной реальности. Отсюда нирвана и сансара – это различные уровни психического состояния индивида.
необходимо различать скандхавиджняну (индивидуальное сознание), феноменальное следствие кармы, и алаявиджняну, представляющую собой постоянно действующую непрерывную духовную энергию, пронизывающую все. Алаявиджняна по отношению к скандхавиджняне выступает как огромное хранилище сознания. Индивидуальное сознание является частью более полного, целого – алаявиджняны.
"Она постоянная основа бесконечного разнообразия чувств и идей, общая для всех умов. Существует только она одна, индивидуальные продукты сознания представляют собой лишь явления фазы алаи"
Мадхьямики утверждают, что "внешние объекты, так же как и внутренние состояния, представляют собой пустоту, шунью". Они акцентируют внимание на снятии дуализма субъекта и объекта. если ложен объект, то нет основания говорить о реальности субъекта. Однако мадхьямики не сводят внешние объекты, так же как и внутренние состояния, к простому ничто. Пустота как абсолютная, безатрибутная реальность в то же время представляет собой положительное начало, "благодаря шуньяте все становится возможным, без нее ничто в мире невозможно"
Противоречия школы йогачаров и мадхьямиков не имели принципиального значения с точки зрения теории "спасения". В том и в другом случае "то, что спасается, есть не что иное, как истинно сущее, которое старается избавиться от безначального бывания. Оно проявляется в каждом индивидуальном существе, и каждый индивидуум, спасая себя, в сущности спасает не себя лично, не для того, чтобы избежать бедствий эмпирического бытия, а для того, чтобы освободиться от самого бытия, как такового: спасая себя, индивидуум тем самым спасает все истинно сущее, частью которого он является сам".
Эта идея особенно отчетливо была сформулирована в китайской махаяне. Она восприняла одинаково как идеи йогачаров о том, что все вещи внешнего мира суть продукты мысли, так и идеи мадхьямиков о тождестве субъекта и объекта и сделала попытку синтезировать их.
Китайская махаяна на первый план выдвинула учение о "природе будды" как единственной, абсолютной реальности, пронизывающей все сущее.. истинно существует лишь Единое, неуничтожимое, неизменное, неделимое, имя которому – Будда. Все остальное – это иллюзия, преходящая, изменчивая, разрозненная. "Природа будды" пронизывает это нереально сущее. Главное, на чем акцентировали свое внимание китайские буддисты, – это то, что каждый человек содержит в себе "природу будды" и является буддой в потенции. Вне "природы будды" нет человека. "Природа будды" выступает как единая субстанция, сущность, обусловливающая существование индивидов. Будучи субстанцией всего сущего, "природа будды" остается целостной и неделимой, а потому целиком и полностью и одновременно присутствующей в каждом индивиде.
Избавление человека от ложного "Я" равнозначно тому, что он сливается со своей истинной природой, "природой будды", а через нее ощущает тождественность со всеми Это такое состояние, когда стираются различия между всеми, когда большее включает в себя малое, малое включает в себя большее, когда не существует ни прошлого, ни будущего, когда в одном содержится все, во всем одно. Таким образом, цель человеческого существования – в его обнаружении своей тождественности единой "природе будды", заложенной в нем и во всех.
Психическое переживание состояния просветленности – это, по сути, достижение истины. Иначе говоря, задачи сотериологии совпадают с задачами познания. Этот момент, как и многие положения буддизма, вытекал из исходных посылок буддизма. Так, например, "неведение", согласно "второй благородной истине" буддизма, является главной причиной, порождающей ложное желание. Отсюда, как пишет Радхакришнан,
"неведение и ложное желание – это теоретическая и практическая стороны одного и того же явления. Пустая абстрактная форма ложной воли – это неведение, конкретное осуществление неведения – это ложная воля. В действительной жизни и то и другое – едино". Поэтому избавление от неведения, достижение истины равнозначно избавлению от ложных желаний, т.е. избавлению от страданий.
...Основная суть этих "десяти сокровенных врат" сводилась к тому, чтобы проиллюстрировать тождественность и взаимообусловленность абсолютной реальности (истинно сущего) и предметов, явлений эмпирического мира (иллюзорной сущности), включая и "омраченное" ложным "я" сознание; затем на основе взаимообусловленности и тождественности истинно сущего и иллюзорно сущего показать тождественность, взаимообусловленность, взаимозависимость всех предметов эмпирического мира вплоть до мельчайшей пылинки.
"HE-Я" В БУДДИЙСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Иначе что же тогда перерождается, что переходит из воплощения в воплощение?
На это следует дать один ответ – ничего. Как при жизни существа нет ничего конкретного, кроме преемственности пустых форм, ложно принимаемых за "я", "как призрак красавицы внушает страсть тем, кто не понял его природы" (Чандракирти), так же и в момент смерти, в промежуточном состоянии после смерти и в новом рождении нет ничего, кроме преемственности пустых форм. Самое главное неведение, как утверждают буддисты, есть неведение в отношении несуществования индивидуального "Я". Четвертый махаянистический путь – путь созерцания (sgom lam) – ставит целью разрушение веры в существование индивидуального "Я" и "я" дхарм.
Однако, в силу неведения сохраняется вера в самость, в некое индивидуальное "Я", и эта вера является горючим, поддерживающим пламя потока элементов индивидуального существования, препятствует интеграции индивида в единство Нирваны, будучи подкрепляема эмоциональными аффектами неведения – омраченностью, страстью, гневом.
Итак, если считать субъектом перерождений сознание (то есть сознание "я"), частицу сверкающей (gsal) алая-виджняны, то чем в таком случае отличается учение Будды от идеализма, против которого он выступал? Ведь ни одна буддийская школа не является чисто идеалистической. Так называемый "чистый идеализм" виджнянаматриков –весьма условный, ведь алая-виджняна виджнянаматриков есть чистая длительность бытия (santäna) или сознание без какого бы то ни было содержания, т.е. шунья.
Если считать, что процесс перерождения – это всего лишь персонификация закона сохранения энергии (неважно какой), то на какой основе тогда возникает в новом рождении является неведение, элемент сознания. И почему можно сказать, что этот человек был в прошлом рождении тем-то и тем-то? Ведь не говорим же мы, что электричество было прежде движением воды в турбине электростанции. Следовательно, попытку представить какое-либо "я" вне преемственности пустых форм следует признать несостоятельной.
Высшая мудрость бодхисаттвы (ye shes), отказавшаяся от всяких мыслительных построений, в том числе конструирующих подкладку для веры в "я", мудрость, сущность которой составляет пробужденная, полная милосердия мысль, – это и есть то, что подводит бодхисаттву к чистой длительности, к дверям в Нирвану, которые суть бесконечно мудрая мысль и непоколебимая богатырская мысль.
для полной реализации бодхи необходимо единство гнозиса и праксиса, праджни и упаи – только таким образом достигается полная интеграция бытия в единстве Нирваны, снимается противоположность "я" и "не-я", субъекта и объекта, реализуется их единство в срединном пути.
В своем комментарии к Праджняпарамите Нагарджуна говорит: "Татхагата иногда учил, что Атман существует, а иногда он учил, что Атман не существует. Это учение, которое так трудно понять, Будда не предназначал для ушей тех, в ком не возрос корень блага. Почему же? Потому, что эти люди, услышав учение об ан-Атмане, несомненно, впали бы в ересь нигилизма.
шуньята шуньяты, или ясный свет Нирваны, не есть ни относительность, ни пустота:
"Она не может быть названа пустотой или не-пустотой, ни обеими вместе, ни каждой в отдельности, но для того, чтобы обозначить ее, она названа пустотой"
Вся теория "анатма" является знаком, указующим на возможность реализации истинности шуньята шуньяты. где болезненное противопоставление "я" и "не-я" снимается и ясно светит полная блаженства абсолютно чистая мысль, лишенная даже тени какого-либо заблуждения (mi rtog).
теория "анатма" не является для буддиста отвлеченным, абстрактным знанием, но служит вехой на пути индивидуального совершенствования.
Л.Е.Янгутов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ О "СПАСЕНИИ" В КИТАЙСКОМ БУДДИЗМЕ
Страдание – это постоянный атрибут человеческой жизни, более того, это форма существования индивида. Однако подобное существование не является истинным, поскольку страдание противоестественно. Поэтому необходимо избавление от данной формы существования, т.е. от страдания.
привязанность к жизни – результат неведения, допускающего мысль: "Это я, это мое". На самом деле нет такого "Я", которое составляло бы личность как таковую, наделенную эмоциями, чувствами, волей, желаниями. "Я" ложно, т.е. индивид, противопоставляющий себя окружающим его предметам внешнего мира как некую самостоятельную сущность, на самом деле не является таковым. Нет такого субстанционального начала, как "Я". Эту мысль весьма удачно выразил О. О. Розенберг:
"Мы не имеем права обособлять части общего узора и говорить: вот солнце, вот "Я". Нет солнца, нет "Я", в смысле чего-то самостоятельно существующего. Есть лишь узор: "личность, видящая солнце", одна нераздельная картина"
Таким образом, объявив страдание необходимым компонентом всякой человеческой жизни, формой существования индивида, причины страдания кроются в самом индивиде, в его неправильных воззрениях, в его жажде жизни. Избавление от собственного "Я" – вот основа основ учения о "спасении".
Как полагали буддисты, человек в процессе своих бесконечных перерождений настолько вжился в собственное "Я", что не может сразу избавиться от него. Для этого недостаточно лишь дискурсивного знания. Необходима долгая и упорная работа над собой с целью вытравливания из себя различного рода эмоций, чувств, воли, мысли и т.п., порождающих жажду жизни, необходима абсолютная свобода индивида от всего того, что связывает его с земной жизнью. А для этого нужны особые методы и рекомендации.
Избавление от иллюзии собственного "Я" стало трактоваться, с одной стороны, как избавление от иллюзии внешнего, эмпирического мира, с другой – как обнаружение истинной сущности, стоящей как за иллюзией "я", так и за иллюзией предметов. Это положение усиливалось тезисом о тождестве нирваны и сансары, согласно которому между нирваной и сансарой нет ни временных, ни пространственных границ. Индивид, находясь в сансаре, одновременно находится и в нирване. Однако нирвана недоступна ему в силу "омраченности" его сознания, порождающего иллюзию "я", а вместе с ней иллюзию внешнего мира. Нирвана, таким образом, трактуется как состояние "очищенного" сознания. Суть "спасения" заключается в приведении индивидом своего сознания в качественно новое состояние, когда перед ним отступает иллюзорный (эмпирический) мир и предстает мир истинной реальности. Отсюда нирвана и сансара – это различные уровни психического состояния индивида.
необходимо различать скандхавиджняну (индивидуальное сознание), феноменальное следствие кармы, и алаявиджняну, представляющую собой постоянно действующую непрерывную духовную энергию, пронизывающую все. Алаявиджняна по отношению к скандхавиджняне выступает как огромное хранилище сознания. Индивидуальное сознание является частью более полного, целого – алаявиджняны.
"Она постоянная основа бесконечного разнообразия чувств и идей, общая для всех умов. Существует только она одна, индивидуальные продукты сознания представляют собой лишь явления фазы алаи"
Мадхьямики утверждают, что "внешние объекты, так же как и внутренние состояния, представляют собой пустоту, шунью". Они акцентируют внимание на снятии дуализма субъекта и объекта. если ложен объект, то нет основания говорить о реальности субъекта. Однако мадхьямики не сводят внешние объекты, так же как и внутренние состояния, к простому ничто. Пустота как абсолютная, безатрибутная реальность в то же время представляет собой положительное начало, "благодаря шуньяте все становится возможным, без нее ничто в мире невозможно"
Противоречия школы йогачаров и мадхьямиков не имели принципиального значения с точки зрения теории "спасения". В том и в другом случае "то, что спасается, есть не что иное, как истинно сущее, которое старается избавиться от безначального бывания. Оно проявляется в каждом индивидуальном существе, и каждый индивидуум, спасая себя, в сущности спасает не себя лично, не для того, чтобы избежать бедствий эмпирического бытия, а для того, чтобы освободиться от самого бытия, как такового: спасая себя, индивидуум тем самым спасает все истинно сущее, частью которого он является сам".
Эта идея особенно отчетливо была сформулирована в китайской махаяне. Она восприняла одинаково как идеи йогачаров о том, что все вещи внешнего мира суть продукты мысли, так и идеи мадхьямиков о тождестве субъекта и объекта и сделала попытку синтезировать их.
Китайская махаяна на первый план выдвинула учение о "природе будды" как единственной, абсолютной реальности, пронизывающей все сущее.. истинно существует лишь Единое, неуничтожимое, неизменное, неделимое, имя которому – Будда. Все остальное – это иллюзия, преходящая, изменчивая, разрозненная. "Природа будды" пронизывает это нереально сущее. Главное, на чем акцентировали свое внимание китайские буддисты, – это то, что каждый человек содержит в себе "природу будды" и является буддой в потенции. Вне "природы будды" нет человека. "Природа будды" выступает как единая субстанция, сущность, обусловливающая существование индивидов. Будучи субстанцией всего сущего, "природа будды" остается целостной и неделимой, а потому целиком и полностью и одновременно присутствующей в каждом индивиде.
Избавление человека от ложного "Я" равнозначно тому, что он сливается со своей истинной природой, "природой будды", а через нее ощущает тождественность со всеми Это такое состояние, когда стираются различия между всеми, когда большее включает в себя малое, малое включает в себя большее, когда не существует ни прошлого, ни будущего, когда в одном содержится все, во всем одно. Таким образом, цель человеческого существования – в его обнаружении своей тождественности единой "природе будды", заложенной в нем и во всех.
Психическое переживание состояния просветленности – это, по сути, достижение истины. Иначе говоря, задачи сотериологии совпадают с задачами познания. Этот момент, как и многие положения буддизма, вытекал из исходных посылок буддизма. Так, например, "неведение", согласно "второй благородной истине" буддизма, является главной причиной, порождающей ложное желание. Отсюда, как пишет Радхакришнан,
"неведение и ложное желание – это теоретическая и практическая стороны одного и того же явления. Пустая абстрактная форма ложной воли – это неведение, конкретное осуществление неведения – это ложная воля. В действительной жизни и то и другое – едино". Поэтому избавление от неведения, достижение истины равнозначно избавлению от ложных желаний, т.е. избавлению от страданий.
...Основная суть этих "десяти сокровенных врат" сводилась к тому, чтобы проиллюстрировать тождественность и взаимообусловленность абсолютной реальности (истинно сущего) и предметов, явлений эмпирического мира (иллюзорной сущности), включая и "омраченное" ложным "я" сознание; затем на основе взаимообусловленности и тождественности истинно сущего и иллюзорно сущего показать тождественность, взаимообусловленность, взаимозависимость всех предметов эмпирического мира вплоть до мельчайшей пылинки.
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
С.П.Нестеркин
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО "Я" В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЧАНЬ-БУДДИЗМЕ
во всех школах буддизма махаяны, в том числе в школе чань, вера в реальность существования индивидуального "Я" объявляется таким же заблуждением, как и вера в реальность существования всех внешних объектов, всех структурных элементов бытия дхарма и вообще всего окружающего мира вещей и явлений (дхарма-дхату). ТОпираясь на эти положения буддизма махаяны, основоположник Южной ветви школы чань Хуэйнэн (638-713) утверждал: "Все дхармы не имеют реальности, поэтому нужно освободиться от идеи их реальности. Тот, кто верит в реальность дхарм, живет в совершенно нереальном мире"
Таким же "заблуждением", от которого необходимо освободиться, он считал и представление об индивидуальном "Я":
"Индивидуальное "Я" есть гора Сумеру, ложное сознание есть Великий океан, а страсти – это волны. Отравленное сознание – это злой дракон, омраченная активность – это рыбы и морские черепахи, иллюзии и ложные взгляды – это духи и черти, три яда (т.е. алчность, гнев и невежество) – это ад; глупость и невежество – это скоты (животные), а десять добрых деяний – это Небесный Алтарь (т.е. рай.). Если не будет индивидуального "Я", то гора Сумеру упадет сама собой; если будет отброшено ложное сознание, то вода в [Великом] океане высохнет [сама собой]; если страстей не будет, то волны исчезнут [сами]; если отравы и пороков не будет, то рыбы и драконы пропадут".
Виджнянавада делает шаг от плюрализма хинаяны к монистическому идеализму, утверждая, что дхармы не имеют истинного бытия, и сводя их к общему источнику – алаявиджняне (сознанию-вместилищу). Сама алаявиджняна – это частица нирваны, не подверженная эмпирическому бытию, однако живые существа в силу врожденного неведения принимают ее трансформации за собственное индивидуальное "Я" и внешние объекты. В силу этой иллюзии возникают ложные мысли, создающие карму и приводящие к "дальнейшим перерождениям" девятый патриарх чань Цзунми (774-841) сравнивал это с болезнью глаз, из-за которой человек видит какие-то несуществующие вещи, или же с фантастическими видениями человека, погруженного в сон и воображающего, что возникающие перед ним в сновидениях объекты реальны, но, пробудившись ото сна, человек обнаруживает, что все эти объекты не более чем трансформация его собственных мыслей в сновидениях. Поэтому [ученикам] необходимо отстраниться от внешних объектов и созерцать свое сознание и таким образом уничтожить ложные мысли. Когда мысли полностью уничтожены, тут же достигается просветление (bodhi.
... стремились достичь состояния "отсутствия памяти" ( у-и), т.е. добиться отсутствия привязанности к своему прошлому, достичь того, чтобы психологические установки, сформированные предыдущим опытом, были отброшены, посредством сосредоточения достичь "отсутствия мысли" ("у-нянь") и освободиться от дискурсивного мышления и базирующихся на нем тревог относительно своего будущего, а посредством практики интуиции добиться того, чтобы "не забывать [соответствовать]" ("мо-ван"), т.е. в каждый момент времени реагировать на ситуацию в соответствии с интуитивным знанием, лишенным заблуждений и ошибок.
Последовательное развитие принципа не-различения в этическом плане привело в этой школе к требованию для монахов не искать благ и не избегать лишений, равно относясь ко всему, что бы ни случалось с ними в жизни:
Необходимость рассмотрения истинного сознания с точки зрения его пустотности (шунья) обусловлена омраченностью живых существ: "...поскольку сознание живых существ омрачено неведением, возникает дискурсивное мышление и они отходят от [истинной таковости], поэтому и говорится пустота; но если они освободятся от омраченного сознания, то в действительности не будет ничего, о чем можно говорить пустота
В аспекте шуньи все дхармы являются не более чем призрачными иллюзиями, а все феноменальное бытие рассматривается как изначально успокоенное и пустотное. Отсюда делается вывод, что нет ничего, от чего нужно было бы освобождаться или что нужно было бы приобретать, и нет никакой особой практики, которую нужно было бы практиковать для достижения просветления. Нужно только в каждый момент созерцать пустотность всех дхарм, и тогда в случае спонтанного возникновения мысли, различающей субъект и объект, она в то же мгновение будет осознаваться как пустотная, и, таким образом, индивид не будет терять целостного восприятия бытия, лишенного множественности, и избежит появления иллюзии индивидуального Я.
"когда будет понято, что все признаки пустотны, несомненно никаких мыслей не останется в сознании. С появлением мысли человек в тот же миг осознает это, и вместе с этим осознанием мысль превращается в ничто... Хотя возможно множество путей практики, отсутствие мысли – основной путь. Только когда человек придет к осознанию отсутствия мысли, естественным образом придут к успокоению страсть и ненависть, естественным образом станут сияющими сострадание и мудрость. Если до конца понять, что все признаки лишены признаков, то естественным образом будет осуществляться практика без практики" ..
Поскольку сущность дхарм, пустотна и изначально просветленна, то истинное сознание в своем позитивном аспекте является вечным и самодостаточным.. Оно содержит в себе все дхармы, подверженные и не подверженные бытию, благие и неблагие. Данный аспект сознания и называется "е-пустотой. Подобно тому как негативное содержание первого аспекта татхаты, пустотность, не есть альтернатива наполненности различными признаками и объектами (подобно, скажем, пустоте комнаты, из которой вынесли вещи), позитивное содержание второго аспекта не является наполненностью признаками, это чистое бытие, в котором невозможно указать на то, что именно "бывает". С точки зрения этого аспекта все проявления человека, любые его дела, слова, мысли, как добрые, так и злые, есть проявления "природы будды" в самом человеке, помимо которого невозможно найти других будд.
"Просветление и есть само сознание, никто не может использовать сознание для того, чтобы культивировать сознание. Зло – это также само сознание. Никто не может отсечь сознание посредством самого сознания. He-отсекание и некультивация, свободное следование собственной природе может быть названо освобождением (vimoksha). Природа [сознания] подобна пустоте; ничто не может быть добавлено к ней, и ничто не может быть изъято, какова же необходимость в ее восполнении? Что нужно делать, так это только остановить свою карму и питать свои духовные силы в любое время и в любом месте, где бы ни находился, крепя чрево святости и демонстрируя чудо спонтанности. Это и есть истинное пробуждение, истинная практика и истинная реализация"
Данные аспекты, подходы к практике, несмотря на различие, даже противоположность вербальных формулировок, не рассматриваются как альтернативные. С точки зрения чань они имеют одну цель – "достижение единства всех признаков и возвращение к природе Будды", а потому не считаются противоречащими друг другу. Такая непротиворечивость базируется на том, что оба аспекта (пустота и не-пустота), лежащие в основе этих представлений, в истинном сознании совпадают.
индивидуальное "Я" обусловлено наличием неведения. Неведение является препятствием к мудрости, так как может помешать ее естественному функционированию в этом мире", Именно под воздействием неведения происходит разделение мира на субъект и объект и создается иллюзия наличия индивидуального "Я".
Когда сознание возбуждается, то появляется и воспринимающий субъект. Если же нет возбуждения, то нет и субъекта восприятия. Поскольку есть воспринимающий субъект, то возникает ложное проявление мира объектов. Если же освободиться от субъекта восприятия, то не будет и мира объектов". из-за омраченности неведением в сознании человека возникают ложные идеи и кармическая активность сознания. Далее, поскольку человек не понимает, что с самого начала эти идеи нереальны (иллюзорны), они трансформируются в субъект и объект, т.е. в того, кто воспринимает, и в то, что является объектом восприятия. Человек не может понять, что эти объекты являются не более чем порождением его омраченного сознания, трансформацией ложных идей, и верит, что они реально существуют. Это называется ошибочной верой в реальность существования внешних объектов, из-за которых человек различает "Я" и "не Я". Таким образом, функционирование неведения порождает все другие клеши и формирует омраченный аспект сознания, мешающий постижению высшей истины. омраченное сознание называется препятствием, обусловленным клешами, потому что может стать преградой фундаментальной мудрости татхаты".
Однако "неведение неотделимо от просветления, и потому его нельзя разрушить, но в то же время оно не может быть не разрушено" Поскольку неведение и просветление нераздельны, алаявиджняна объединяет в себе оба аспекта, просветленный и омраченный: "Алаявиджняна есть то, в чем непротиворечиво объединены нерожденное и неуничтожимое (просветленный аспект) и рождение и уничтожение (омраченный аспект, которые [одновременно] и не едины, и не раздельны друг с другом"
В силу недвойственности неведения и просветления, единства в алаявиджняне омраченного и просветленного аспектов просветления невозможно достичь путем простого подавления неведения, Прекратить омрачающее действие неведения и достичь просветления можно только через понимание этой недвойственности. Один из наиболее ярких представителей теории экаяны в чань-буддизме Хуэйнэн критиковал как тех, кто стремится подавить омрачение. В самой установке на искоренение загрязнений заложено отношение к ним как к тому, что действительно существует, и потому адепт, сам того не желая, привязывается к загрязнениям, укореняет их в сознании.
"Заблуждающиеся люди принимают за прямоту сознания неподвижное сидение (т.е. сидячую медитацию). Занятия такой практикой уподобляют [человека] бесчувственным [вещам] и создают препятствия к Пути-Дао. Но Дао должно течь беспрепятственно, как можно ему препятствовать? Если сознание задерживается на вещах, то, значит, оно связывает само себя..
Мацзу сказал: "будда не есть неподвижность. Если ты сидишь, [чтобы стать] буддой, то ты просто убиваешь его. Если ты держишься за сидение, то ты никогда не реализуешь дхарму". Услышав эти слова, Мацзу достиг просветления".
Поскольку просветленное сознание включает в себя и омраченный, имманентный, аспект, и просветленный, трансцендентный, для достижения просветления нет необходимости в какой-то особой практике. Более того, какая-либо практика, как процесс, отдельный от трансцендентного просветления, становится с этой точки зрения невозможной, так как в этом случае нарушалась бы недвойственность трансцендентного и имманентного. Поэтому в традиции экаяны практика и просветление рассматриваются как тождественные. Разъясняя соотношение практики и просветления, Хуэйнэн говорил: "Благомудрые друзья! В этих вратах моего учения основой являются сосредоточенность и мудрость. Нельзя утверждать, что мудрость и сосредоточенность различаются. Сосредоточенность и мудрость являются одним целым и не разделяются надвое. Как только появляется сосредоточенность, в ней присутствует мудрость".
Несмотря на значительные различия в теории и практике школ чань, опирающихся на теорию дхармалакшаны, и школ, базирующихся на учении единого сознания, эти взгляды не рассматривались как взаимоисключающие друг друга. В Южной школе чань Хуэйнэна путь дхармалакшаны рассматривается как необходимый для людей с малыми способностями. При этом, однако, считалось, что те, кто придерживается взглядов дхармалакшаны о необходимости длительной практики, не могут достичь окончательного просветления и так или иначе должны будут закончить совершенствование, практикуя в соответствии с учением о "едином сознании".
несмотря на разнообразие философских позиций различных школ средневекового чань-буддизма, все они базируются на общем для всех школ махаяны фундаменте: признании того, что эмпирическое индивидуальное "Я" в абсолютном смысле лишено реальности.
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО "Я" В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЧАНЬ-БУДДИЗМЕ
во всех школах буддизма махаяны, в том числе в школе чань, вера в реальность существования индивидуального "Я" объявляется таким же заблуждением, как и вера в реальность существования всех внешних объектов, всех структурных элементов бытия дхарма и вообще всего окружающего мира вещей и явлений (дхарма-дхату). ТОпираясь на эти положения буддизма махаяны, основоположник Южной ветви школы чань Хуэйнэн (638-713) утверждал: "Все дхармы не имеют реальности, поэтому нужно освободиться от идеи их реальности. Тот, кто верит в реальность дхарм, живет в совершенно нереальном мире"
Таким же "заблуждением", от которого необходимо освободиться, он считал и представление об индивидуальном "Я":
"Индивидуальное "Я" есть гора Сумеру, ложное сознание есть Великий океан, а страсти – это волны. Отравленное сознание – это злой дракон, омраченная активность – это рыбы и морские черепахи, иллюзии и ложные взгляды – это духи и черти, три яда (т.е. алчность, гнев и невежество) – это ад; глупость и невежество – это скоты (животные), а десять добрых деяний – это Небесный Алтарь (т.е. рай.). Если не будет индивидуального "Я", то гора Сумеру упадет сама собой; если будет отброшено ложное сознание, то вода в [Великом] океане высохнет [сама собой]; если страстей не будет, то волны исчезнут [сами]; если отравы и пороков не будет, то рыбы и драконы пропадут".
Виджнянавада делает шаг от плюрализма хинаяны к монистическому идеализму, утверждая, что дхармы не имеют истинного бытия, и сводя их к общему источнику – алаявиджняне (сознанию-вместилищу). Сама алаявиджняна – это частица нирваны, не подверженная эмпирическому бытию, однако живые существа в силу врожденного неведения принимают ее трансформации за собственное индивидуальное "Я" и внешние объекты. В силу этой иллюзии возникают ложные мысли, создающие карму и приводящие к "дальнейшим перерождениям" девятый патриарх чань Цзунми (774-841) сравнивал это с болезнью глаз, из-за которой человек видит какие-то несуществующие вещи, или же с фантастическими видениями человека, погруженного в сон и воображающего, что возникающие перед ним в сновидениях объекты реальны, но, пробудившись ото сна, человек обнаруживает, что все эти объекты не более чем трансформация его собственных мыслей в сновидениях. Поэтому [ученикам] необходимо отстраниться от внешних объектов и созерцать свое сознание и таким образом уничтожить ложные мысли. Когда мысли полностью уничтожены, тут же достигается просветление (bodhi.
... стремились достичь состояния "отсутствия памяти" ( у-и), т.е. добиться отсутствия привязанности к своему прошлому, достичь того, чтобы психологические установки, сформированные предыдущим опытом, были отброшены, посредством сосредоточения достичь "отсутствия мысли" ("у-нянь") и освободиться от дискурсивного мышления и базирующихся на нем тревог относительно своего будущего, а посредством практики интуиции добиться того, чтобы "не забывать [соответствовать]" ("мо-ван"), т.е. в каждый момент времени реагировать на ситуацию в соответствии с интуитивным знанием, лишенным заблуждений и ошибок.
Последовательное развитие принципа не-различения в этическом плане привело в этой школе к требованию для монахов не искать благ и не избегать лишений, равно относясь ко всему, что бы ни случалось с ними в жизни:
Необходимость рассмотрения истинного сознания с точки зрения его пустотности (шунья) обусловлена омраченностью живых существ: "...поскольку сознание живых существ омрачено неведением, возникает дискурсивное мышление и они отходят от [истинной таковости], поэтому и говорится пустота; но если они освободятся от омраченного сознания, то в действительности не будет ничего, о чем можно говорить пустота
В аспекте шуньи все дхармы являются не более чем призрачными иллюзиями, а все феноменальное бытие рассматривается как изначально успокоенное и пустотное. Отсюда делается вывод, что нет ничего, от чего нужно было бы освобождаться или что нужно было бы приобретать, и нет никакой особой практики, которую нужно было бы практиковать для достижения просветления. Нужно только в каждый момент созерцать пустотность всех дхарм, и тогда в случае спонтанного возникновения мысли, различающей субъект и объект, она в то же мгновение будет осознаваться как пустотная, и, таким образом, индивид не будет терять целостного восприятия бытия, лишенного множественности, и избежит появления иллюзии индивидуального Я.
"когда будет понято, что все признаки пустотны, несомненно никаких мыслей не останется в сознании. С появлением мысли человек в тот же миг осознает это, и вместе с этим осознанием мысль превращается в ничто... Хотя возможно множество путей практики, отсутствие мысли – основной путь. Только когда человек придет к осознанию отсутствия мысли, естественным образом придут к успокоению страсть и ненависть, естественным образом станут сияющими сострадание и мудрость. Если до конца понять, что все признаки лишены признаков, то естественным образом будет осуществляться практика без практики" ..
Поскольку сущность дхарм, пустотна и изначально просветленна, то истинное сознание в своем позитивном аспекте является вечным и самодостаточным.. Оно содержит в себе все дхармы, подверженные и не подверженные бытию, благие и неблагие. Данный аспект сознания и называется "е-пустотой. Подобно тому как негативное содержание первого аспекта татхаты, пустотность, не есть альтернатива наполненности различными признаками и объектами (подобно, скажем, пустоте комнаты, из которой вынесли вещи), позитивное содержание второго аспекта не является наполненностью признаками, это чистое бытие, в котором невозможно указать на то, что именно "бывает". С точки зрения этого аспекта все проявления человека, любые его дела, слова, мысли, как добрые, так и злые, есть проявления "природы будды" в самом человеке, помимо которого невозможно найти других будд.
"Просветление и есть само сознание, никто не может использовать сознание для того, чтобы культивировать сознание. Зло – это также само сознание. Никто не может отсечь сознание посредством самого сознания. He-отсекание и некультивация, свободное следование собственной природе может быть названо освобождением (vimoksha). Природа [сознания] подобна пустоте; ничто не может быть добавлено к ней, и ничто не может быть изъято, какова же необходимость в ее восполнении? Что нужно делать, так это только остановить свою карму и питать свои духовные силы в любое время и в любом месте, где бы ни находился, крепя чрево святости и демонстрируя чудо спонтанности. Это и есть истинное пробуждение, истинная практика и истинная реализация"
Данные аспекты, подходы к практике, несмотря на различие, даже противоположность вербальных формулировок, не рассматриваются как альтернативные. С точки зрения чань они имеют одну цель – "достижение единства всех признаков и возвращение к природе Будды", а потому не считаются противоречащими друг другу. Такая непротиворечивость базируется на том, что оба аспекта (пустота и не-пустота), лежащие в основе этих представлений, в истинном сознании совпадают.
индивидуальное "Я" обусловлено наличием неведения. Неведение является препятствием к мудрости, так как может помешать ее естественному функционированию в этом мире", Именно под воздействием неведения происходит разделение мира на субъект и объект и создается иллюзия наличия индивидуального "Я".
Когда сознание возбуждается, то появляется и воспринимающий субъект. Если же нет возбуждения, то нет и субъекта восприятия. Поскольку есть воспринимающий субъект, то возникает ложное проявление мира объектов. Если же освободиться от субъекта восприятия, то не будет и мира объектов". из-за омраченности неведением в сознании человека возникают ложные идеи и кармическая активность сознания. Далее, поскольку человек не понимает, что с самого начала эти идеи нереальны (иллюзорны), они трансформируются в субъект и объект, т.е. в того, кто воспринимает, и в то, что является объектом восприятия. Человек не может понять, что эти объекты являются не более чем порождением его омраченного сознания, трансформацией ложных идей, и верит, что они реально существуют. Это называется ошибочной верой в реальность существования внешних объектов, из-за которых человек различает "Я" и "не Я". Таким образом, функционирование неведения порождает все другие клеши и формирует омраченный аспект сознания, мешающий постижению высшей истины. омраченное сознание называется препятствием, обусловленным клешами, потому что может стать преградой фундаментальной мудрости татхаты".
Однако "неведение неотделимо от просветления, и потому его нельзя разрушить, но в то же время оно не может быть не разрушено" Поскольку неведение и просветление нераздельны, алаявиджняна объединяет в себе оба аспекта, просветленный и омраченный: "Алаявиджняна есть то, в чем непротиворечиво объединены нерожденное и неуничтожимое (просветленный аспект) и рождение и уничтожение (омраченный аспект, которые [одновременно] и не едины, и не раздельны друг с другом"
В силу недвойственности неведения и просветления, единства в алаявиджняне омраченного и просветленного аспектов просветления невозможно достичь путем простого подавления неведения, Прекратить омрачающее действие неведения и достичь просветления можно только через понимание этой недвойственности. Один из наиболее ярких представителей теории экаяны в чань-буддизме Хуэйнэн критиковал как тех, кто стремится подавить омрачение. В самой установке на искоренение загрязнений заложено отношение к ним как к тому, что действительно существует, и потому адепт, сам того не желая, привязывается к загрязнениям, укореняет их в сознании.
"Заблуждающиеся люди принимают за прямоту сознания неподвижное сидение (т.е. сидячую медитацию). Занятия такой практикой уподобляют [человека] бесчувственным [вещам] и создают препятствия к Пути-Дао. Но Дао должно течь беспрепятственно, как можно ему препятствовать? Если сознание задерживается на вещах, то, значит, оно связывает само себя..
Мацзу сказал: "будда не есть неподвижность. Если ты сидишь, [чтобы стать] буддой, то ты просто убиваешь его. Если ты держишься за сидение, то ты никогда не реализуешь дхарму". Услышав эти слова, Мацзу достиг просветления".
Поскольку просветленное сознание включает в себя и омраченный, имманентный, аспект, и просветленный, трансцендентный, для достижения просветления нет необходимости в какой-то особой практике. Более того, какая-либо практика, как процесс, отдельный от трансцендентного просветления, становится с этой точки зрения невозможной, так как в этом случае нарушалась бы недвойственность трансцендентного и имманентного. Поэтому в традиции экаяны практика и просветление рассматриваются как тождественные. Разъясняя соотношение практики и просветления, Хуэйнэн говорил: "Благомудрые друзья! В этих вратах моего учения основой являются сосредоточенность и мудрость. Нельзя утверждать, что мудрость и сосредоточенность различаются. Сосредоточенность и мудрость являются одним целым и не разделяются надвое. Как только появляется сосредоточенность, в ней присутствует мудрость".
Несмотря на значительные различия в теории и практике школ чань, опирающихся на теорию дхармалакшаны, и школ, базирующихся на учении единого сознания, эти взгляды не рассматривались как взаимоисключающие друг друга. В Южной школе чань Хуэйнэна путь дхармалакшаны рассматривается как необходимый для людей с малыми способностями. При этом, однако, считалось, что те, кто придерживается взглядов дхармалакшаны о необходимости длительной практики, не могут достичь окончательного просветления и так или иначе должны будут закончить совершенствование, практикуя в соответствии с учением о "едином сознании".
несмотря на разнообразие философских позиций различных школ средневекового чань-буддизма, все они базируются на общем для всех школ махаяны фундаменте: признании того, что эмпирическое индивидуальное "Я" в абсолютном смысле лишено реальности.
Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
«Десять ступеней бодхисаттвы»
(на материале сутры «Цзиньгуанмин-цзюйшэ-ванцзин») - Игнатович
В свое время О. О. Розенберг отмечал, что "описываемые буддистами высшие ступени на пути к успокоению или к нирване имеют не только несомненно ближайшее отношение к практике созерцания и экстазам мистика, но являются в сущности не чем иным, как теми же степенями экстаза, но рассматриваемыми как длящиеся, самостоятельные формы бытия, принимаемые потоком сознательной жизни".
ДЕСЯТЬ СТУПЕНЕЙ БОДХИСАТТВЫ
Начальная (или первая) ступень.
I. "Радость" (pramudita)
II. У бодхисаттвы возникают мысли, присущие тем, кто "вышел из дома". Деяния бодхисаттв достигают совершенства, и это вызывает у них "высшую радость".
III. Бодхисаттвы видят, что все миры "наполнены неисчислимыми [по количеству] и безграничными [по разнообразию] сокровищами"
(1) "Незнание", заключающееся в том, что признается существование "Я" и дхарм; (2) "незнание", заключающееся в том, что испытывается страх перед "рождениями и смертями" (т.е. "сансарой") и перерождением в "плохих мирах"
Вторая ступень.
I. "Отсутствие грязи (накипи)" (vimalä).
II. Бодхисаттва очищается от всех, "даже мельчайших пылинок грязи (накипи)", преодолевает любые нарушения обетов и все ошибки.
III. Бодхисаттва видит, что все миры "имеют ровную, как ладонь, поверхность, [расцвеченную] неисчислимыми [по количеству] и безграничными [по разнообразию] чудесными красками, что [они] подобны чистым и редким сокровищам, величественному (блистательному) сосуду.
IV. Самадхи "Способность к любви и радости".
V. Дхарани, называемое "Доброе (безбедное), спокойное, радостное обитание":
Третья ступень.
I. "Сияние" (prabhakari).
II. "Свет и сияние неисчислимых знания и мудрости и самадхи не могут сдвинуться в сторону (отклониться) и преломиться (доcл. разбиться).
III. Бодхисаттвы видят, что они "мужественны, здоровы, в броне, с оружием, величественны. Все зло и разбойники могут быть захвачены и сломлены".
Овладение, данной парамитой уподобляется обладанию "великой силой льва", благодаря которой "царь зверей" может бесстрашно "ступать в одиночестве".
Четвертая ступень
.
I. "Пламя" ("янь).
II. "Посредством знания и мудрости" (праджни) сжигаются все заблуждения и страсти, усиливаются свет и сияние [мудрости], бодхисаттвы уже достигают частичного просветления".
III. Бодхисаттва видит, как "во [все] четыре стороны [света] под порывами ветра разлетаются различного рода чудесные цветы и полностью покрывают землю".
Пять установок: 1) "нет радости в существовании вместе с заблуждениями и страстями"; 2) "нельзя обрести спокойствие и радость до тех пор, пока добродетели неполны"; 3) "не должны рождаться мысли об отвращении к делам, которые трудно и мучительно выполнять";
Пятая ступень.
I. "Трудная победа"
II. "В высшей степени трудно достичь самостоятельного существования и [все] побеждающего знания при помощи упражнений, [но тем не менее] видно, что заблуждения и страсти, которые трудно сломить, все-таки можно сломить".
Овладение данной парамитой сравнивается с тем, как человек, проживающий в "доме из семи сокровищ и с четырьмя галереями", ощутил "радость и покой отрешения" от "чистого и свежего ветра", проникнувшего в дом через "четверо врат", и с тем, как "сокровищница дхарм чистых намерений (дум) стремится к полноте (наполненности)".
Пять установок: 1) "ухватить все благоприятные дхармы и сделать так, чтобы [они] не рассыпались"; 2) "постоянно желать освобождения и не [становиться] привязанным к двум крайностям"; 3) "желать достижения (получения) чудесных проникновении и приведения живых существ к вызреванию добрых корней [в них]"; 4) "сделать чистыми "миры дхарм" и очистить мысли от грязи (накипи)";
Шестая ступень.
I. «Появление перед [глазами]»
II. «Проявляется (другими словами, появляется перед глазами) движение дхармы, познается их истинная суть (то, что они иллюзорны), проявляются также и «мысли [не привязанные] к знакам», т.е. усваивается идея об иллюзорности феноменального мира.
III. Бодхисаттвы видят: «К пруду со цветами из семи драгоценностей опускаются четыре лестницы, повсюду золотой песок, чистый, без грязи. [Пруд] наполнен водой [обладающей] восемью добродетелями». Прогуливающиеся в окрестностях этого пруда, которые так же украшены различными «волшебными цветами» (упала, кумуда, пундарика), «получают радость и чистоту, которые [ни с чем] не сравнимы».
IV. (1) «Незнание [заключающееся в том, что] видят [истину] в круговращении потока»; (2) «незнание [того, что] перед [глазами] проявляются грубые знаки».
V. «Парамита мудрости» (prajnà-pàramità). «Подобно тому как солнечные лучи ярко освещают пространство, так и мысли тех [кто овладел данной «парамитой»] способны быстро устранять незнание, касающееся жизней и смертей».
Пять установок: 1) «всегда оказывать благодеяния буддам, бодхисаттвам, а также тем, кто просветлился до знания [сути бытия], находиться вблизи [них], не вызывать [к себе] неприязни [с их стороны] и не поворачиваться [к ним] спиной»; 2) «постоянно с радостными мыслями слушать глубочайший Закон, который проповедуют будды и татхагаты и который неисчерпаем»; 3) «радоваться [знанию] доброго различия между [все] побеждающими деяниями — истинными и мирскими»; 4) «видеть [в самом себе] действие заблуждений и страстей и быстро прерывать [их] и очищаться [от них]»; 5) «в полной мере овладевать светлыми законами пяти искусств мира».
VI. Самадхи «Пламя солнечного ореола».
Седьмая ступень.
I. "Вечно следующие [Пути]"
II. "Так как [бодхисаттвы] вечно следуют мыслям [не имеющим] волнения, объема, знаков и практикуют самадхи. Освобождение, то на этой ступени [они] чисты и [свободны] от препятствий".
III. "Бодхисаттва видит, как перед [ним] живые существа падают в ад, и при помощи силы бодхисаттв [он] не дает [им] пасть. [Живые существа] не [испытывают] ущерба и вреда, а также не [испытывают] страха".
Пять установок: 1) "различать у живых существ [их] осознание радости и мысли [связанные с] заблуждениями и страстями, полностью и глубоко быть [в этом] осведомленным"; 2) "ясно представлять в мыслях все [лечебные] средства против неисчислимого количества дхарм"; 3) "[использовать] самостоятельное существование [благодаря которому] выходят из сосредоточения на великом сострадании и входят [в него]"; 4) "что касается парамит, то желать следовать [им и всеми] полностью овладеть"; 5) "желать пройти через все законы будд и постичь [их] все без остатка".
Восьмая ступень.
I. Бодхисаттвы видят: "По обе стороны от них находятся цари львов, чтобы их охранять. Все звери их боятся".
"Подобно тому как чистая луна, будучи полной, не имеет дымки, так и мысли того [кто следует данной парамите] в отношении всего воспринимаемого наполнены чистотой".
Пять установок: 1) "мысли о том, что все дхармы изначально и впредь не рождаются и не исчезают, не существуют и не несуществуют, обретают спокойное состояние"; 2) "мысли, познавшие самый чудесный Закон (принцип) всех дхарм, отдалившиеся от грязи и [ставшие] чистыми, обретают спокойное состояние"; 3) "мысли, преодолевшие все знаки и /нашедшие свою/ основу в "истинной таковости" (татхате), не деятельные, не имеющие различий, неподвижные, обретают спокойное состояние"; 4) "мысли, сделавшие своим желанием [принесение] пользы живым существам и пребывающие в мирской истине, обретают спокойное состояние"; 5) "мысли, одновременно вращающиеся в шаматхе и випашьяне, обретают спокойное, состояние".
II. Самадхи "Проявление перед глазами просветленного состояния".
III. Дхарани, называемое Неисчерпаемые сокровища:
Девятая ступень.
I. "Добрая мудрость"
II. "Объясняя различия разного рода дхарм, [бодхисаттва] достигает [на этой ступени] самостоятельного существования, отсутствия тяжелых переживаний, беспокойств; возрастают [его] знание и мудрость; [его] самостоятельное существование не имеет препятствий".
Ш. Бодхисаттвы видят, что чакравартин со своей свитой оказывает им "благодеяния [пищей и одеждой], что над их головами белые зонтики, что их тела украшены бесчисленными драгоценностями".
III. "Парамита силы"
"Подобно тому как сокровище полководца – святого царя, вращающего колесо (чакравартина), следует мыслям (намерениям) своего обладателя, так и мысли того [кто следует данной парамите] способны хорошо украсить Чистую Землю будд и принести массе рожденных неисчислимые добродетели"
IV. Самадхи "Сокровищница знания"
V. Дхарани, называемое "Неисчислимые [по количеству] врата".
Десятая ступень.
I. "Закон-облако" (dharmamegha)
II. "Тело Закона подобно пространству, знание и мудрость подобны великому облаку. [Они] способны заполнить и все покрыть".
III. Бодхисаттвы видят: "Тела татхагат излучают золотое сияние, наполняют все вокруг неизмеримо чистым светом". Бесчисленные цари-брахманы оказывают им почтение, совершают в их пользу благодеяния. Татхагаты вращают "чудесное колесо Закона"
IV. "Парамита знания" (jnana-paramita)
"Подобно тому как пространство, а также святой царь, вращающий колесо [Закона], и его мысли могут беспрепятственно распространяться по всем мирам, так и [бодхисаттва, следующий данной парамите] может во всех местах достичь самостоятельного существования – вплоть до обретения места "с окропленной головой".
Пять установок: "наполненное счастьем знание следует по всем без исключения местам"; 5) "с окропленной головой, которые победили, способны постичь все необщие дхармы будд, а также все знания".
V. Самадхи "С храбростью продвигающееся вперед"
VI. "Дхарани", называемое "Разрушающее горы из алмаза".
В процессе прохождения бодхисаттвой десяти ступеней отчетливо выделяются два направления изменения его психического состояния.
Во-первых, трансформируется мироощущение бодхисаттвы. Во-вторых, на каждой "ступени" происходит усиление ощущения бодхисаттвой собственного могущества. Безусловно, ощущение физической неуязвимости, равенства с монархом (и даже превосходства над ним) следует понимать метафорически, т.е. как "знак" определенного психического состояния.
В третьей главе сутры прямо утверждается, что обыкновенные люди "отдалены от трех тел будды" из-за неправильного понимания так называемых "трех знаков" и неспособности очиститься от "трех [типов] мыслей".
"Три знака" – это: 1) "знак привязанности к всеобщим измерениям". Им обозначается ложное с точки зрения философии и психологии махаяны различение "феноменов" и присвоение им "имен" (т.е. их "измерение", оценка); 2) "знак возникновения с опорой на другое" обозначает также ложное представление, что все "феномены" возникают во взаимодействии друг с другом (по закону "зависимого существования"); 3) "знак достижения [истины]" указывает на достижение адекватного взгляда на "феномены", т.е. постижение их иллюзорности и отсутствия различий.
"Три [типа] мыслей" – это: 1) "мысли о возникновении дел" (т.е. "феноменов"); 2) "мысли об опоре на основу": возникновение "дел и вещей" опирается на некоторую основу; 3) "мысли об основе" – основа (и здесь, и в предыдущем случае) – синоним алаявиджняны, универсального "сознания-хранилища" (единственной реальности в виджнянаваде, осмысляемой иногда как Абсолют).
Деятельность его всегда сопровождается четырьмя главными "заблуждениями" и страстями (прежде всего признанием реальности "Я" и себялюбием). Даже осознание алаявиджняны расценивается как умственный акт, вызывающий различные заблуждения. В рассуждениях о "трех телах будды" неоднократно повторяется, что путь к просветлению возможен только посредством подавления "трех типов мыслей" (т.е. функционирования разума), а при перечислении в этой главе кратких характеристик "десяти ступеней" указывается, что на десятой ступени "удаляют мысли об основе" и вступают на ступень татхагаты.
"Ступень татхагаты", т.е. "состояние будды", характеризуется в сутре "тремя [видами] чистоты" – в отношении: 1) заблуждений и страстей, 2) страданий и 3) "знаков" (т.е. различий "феноменов"). И далее подчеркивается, что эти "три вида чистоты", закон "таковости" (татхаты), неразличение внутри "таковости", истинное освобождение, "конечный предел "таковости"" (т.е. сама татхата) едины. "Ступень татхагаты" сравнивается с куском золота, которое "после того, как плавилось, подвергалось ковке и обжигу, не содержит пылинок грязи, поэтому выявляет истинную природу (естество) золота и является чистым. Сущность золота чиста. Таким образом, абсолютное состояние достигшего "ступени татхагаты" уподобляется "царю металлов".
Итак, конечное, целевое состояние психики, предлагаемое составителями сутры бодхисаттве, можно представить как полное подавление рационального восприятия и оценки окружающего мира и себя самого, как "отключение" от реальности и пребывание, говоря словами О. О. Розенберга, в экстазе, которое характеризуется цепочкой видений, и главное из них – сияющее "тело будды". Перед тем как "совершить все деяния", бодхисаттва, говорится в сутре, находится в "сосредоточении без мыслей" ("усиньдин"), а это как раз тот тип медитации, во время которой перестает функционировать разум.
Прохождение бодхисаттвой "десяти ступеней" весьма схоже с процессом "самоактуализации", концепцию которой разрабатывает так называемая "гуманистическая психология" А. Маслоу. Ее автор выделил ряд так называемых "предельных" ценностей (более специальное название – "Б-ценности", "бытийные" ценности, которые выступают как "метапотребности". Реализация последних и есть конечная цель "самоактуализации". Избавление от страданий, страха смерти и достижение некоего блаженного состояния, т.е. обретение нирваны, не могло не быть "Б-ценностями" и соответственно метапотребностью буддиста.
А. Маслоу выделяет восемь путей самоактуализации. Если посмотреть на материал сутры, касающийся десяти ступеней и постижения сокровенных истин, то мы обнаружим поразительное сходство в принципах решения проблемы реализации "метапотребностей".

(на материале сутры «Цзиньгуанмин-цзюйшэ-ванцзин») - Игнатович
В свое время О. О. Розенберг отмечал, что "описываемые буддистами высшие ступени на пути к успокоению или к нирване имеют не только несомненно ближайшее отношение к практике созерцания и экстазам мистика, но являются в сущности не чем иным, как теми же степенями экстаза, но рассматриваемыми как длящиеся, самостоятельные формы бытия, принимаемые потоком сознательной жизни".
ДЕСЯТЬ СТУПЕНЕЙ БОДХИСАТТВЫ
Начальная (или первая) ступень.
I. "Радость" (pramudita)
II. У бодхисаттвы возникают мысли, присущие тем, кто "вышел из дома". Деяния бодхисаттв достигают совершенства, и это вызывает у них "высшую радость".
III. Бодхисаттвы видят, что все миры "наполнены неисчислимыми [по количеству] и безграничными [по разнообразию] сокровищами"
(1) "Незнание", заключающееся в том, что признается существование "Я" и дхарм; (2) "незнание", заключающееся в том, что испытывается страх перед "рождениями и смертями" (т.е. "сансарой") и перерождением в "плохих мирах"
Вторая ступень.
I. "Отсутствие грязи (накипи)" (vimalä).
II. Бодхисаттва очищается от всех, "даже мельчайших пылинок грязи (накипи)", преодолевает любые нарушения обетов и все ошибки.
III. Бодхисаттва видит, что все миры "имеют ровную, как ладонь, поверхность, [расцвеченную] неисчислимыми [по количеству] и безграничными [по разнообразию] чудесными красками, что [они] подобны чистым и редким сокровищам, величественному (блистательному) сосуду.
IV. Самадхи "Способность к любви и радости".
V. Дхарани, называемое "Доброе (безбедное), спокойное, радостное обитание":
Третья ступень.
I. "Сияние" (prabhakari).
II. "Свет и сияние неисчислимых знания и мудрости и самадхи не могут сдвинуться в сторону (отклониться) и преломиться (доcл. разбиться).
III. Бодхисаттвы видят, что они "мужественны, здоровы, в броне, с оружием, величественны. Все зло и разбойники могут быть захвачены и сломлены".
Овладение, данной парамитой уподобляется обладанию "великой силой льва", благодаря которой "царь зверей" может бесстрашно "ступать в одиночестве".
Четвертая ступень
.
I. "Пламя" ("янь).
II. "Посредством знания и мудрости" (праджни) сжигаются все заблуждения и страсти, усиливаются свет и сияние [мудрости], бодхисаттвы уже достигают частичного просветления".
III. Бодхисаттва видит, как "во [все] четыре стороны [света] под порывами ветра разлетаются различного рода чудесные цветы и полностью покрывают землю".
Пять установок: 1) "нет радости в существовании вместе с заблуждениями и страстями"; 2) "нельзя обрести спокойствие и радость до тех пор, пока добродетели неполны"; 3) "не должны рождаться мысли об отвращении к делам, которые трудно и мучительно выполнять";
Пятая ступень.
I. "Трудная победа"
II. "В высшей степени трудно достичь самостоятельного существования и [все] побеждающего знания при помощи упражнений, [но тем не менее] видно, что заблуждения и страсти, которые трудно сломить, все-таки можно сломить".
Овладение данной парамитой сравнивается с тем, как человек, проживающий в "доме из семи сокровищ и с четырьмя галереями", ощутил "радость и покой отрешения" от "чистого и свежего ветра", проникнувшего в дом через "четверо врат", и с тем, как "сокровищница дхарм чистых намерений (дум) стремится к полноте (наполненности)".
Пять установок: 1) "ухватить все благоприятные дхармы и сделать так, чтобы [они] не рассыпались"; 2) "постоянно желать освобождения и не [становиться] привязанным к двум крайностям"; 3) "желать достижения (получения) чудесных проникновении и приведения живых существ к вызреванию добрых корней [в них]"; 4) "сделать чистыми "миры дхарм" и очистить мысли от грязи (накипи)";
Шестая ступень.
I. «Появление перед [глазами]»
II. «Проявляется (другими словами, появляется перед глазами) движение дхармы, познается их истинная суть (то, что они иллюзорны), проявляются также и «мысли [не привязанные] к знакам», т.е. усваивается идея об иллюзорности феноменального мира.
III. Бодхисаттвы видят: «К пруду со цветами из семи драгоценностей опускаются четыре лестницы, повсюду золотой песок, чистый, без грязи. [Пруд] наполнен водой [обладающей] восемью добродетелями». Прогуливающиеся в окрестностях этого пруда, которые так же украшены различными «волшебными цветами» (упала, кумуда, пундарика), «получают радость и чистоту, которые [ни с чем] не сравнимы».
IV. (1) «Незнание [заключающееся в том, что] видят [истину] в круговращении потока»; (2) «незнание [того, что] перед [глазами] проявляются грубые знаки».
V. «Парамита мудрости» (prajnà-pàramità). «Подобно тому как солнечные лучи ярко освещают пространство, так и мысли тех [кто овладел данной «парамитой»] способны быстро устранять незнание, касающееся жизней и смертей».
Пять установок: 1) «всегда оказывать благодеяния буддам, бодхисаттвам, а также тем, кто просветлился до знания [сути бытия], находиться вблизи [них], не вызывать [к себе] неприязни [с их стороны] и не поворачиваться [к ним] спиной»; 2) «постоянно с радостными мыслями слушать глубочайший Закон, который проповедуют будды и татхагаты и который неисчерпаем»; 3) «радоваться [знанию] доброго различия между [все] побеждающими деяниями — истинными и мирскими»; 4) «видеть [в самом себе] действие заблуждений и страстей и быстро прерывать [их] и очищаться [от них]»; 5) «в полной мере овладевать светлыми законами пяти искусств мира».
VI. Самадхи «Пламя солнечного ореола».
Седьмая ступень.
I. "Вечно следующие [Пути]"
II. "Так как [бодхисаттвы] вечно следуют мыслям [не имеющим] волнения, объема, знаков и практикуют самадхи. Освобождение, то на этой ступени [они] чисты и [свободны] от препятствий".
III. "Бодхисаттва видит, как перед [ним] живые существа падают в ад, и при помощи силы бодхисаттв [он] не дает [им] пасть. [Живые существа] не [испытывают] ущерба и вреда, а также не [испытывают] страха".
Пять установок: 1) "различать у живых существ [их] осознание радости и мысли [связанные с] заблуждениями и страстями, полностью и глубоко быть [в этом] осведомленным"; 2) "ясно представлять в мыслях все [лечебные] средства против неисчислимого количества дхарм"; 3) "[использовать] самостоятельное существование [благодаря которому] выходят из сосредоточения на великом сострадании и входят [в него]"; 4) "что касается парамит, то желать следовать [им и всеми] полностью овладеть"; 5) "желать пройти через все законы будд и постичь [их] все без остатка".
Восьмая ступень.
I. Бодхисаттвы видят: "По обе стороны от них находятся цари львов, чтобы их охранять. Все звери их боятся".
"Подобно тому как чистая луна, будучи полной, не имеет дымки, так и мысли того [кто следует данной парамите] в отношении всего воспринимаемого наполнены чистотой".
Пять установок: 1) "мысли о том, что все дхармы изначально и впредь не рождаются и не исчезают, не существуют и не несуществуют, обретают спокойное состояние"; 2) "мысли, познавшие самый чудесный Закон (принцип) всех дхарм, отдалившиеся от грязи и [ставшие] чистыми, обретают спокойное состояние"; 3) "мысли, преодолевшие все знаки и /нашедшие свою/ основу в "истинной таковости" (татхате), не деятельные, не имеющие различий, неподвижные, обретают спокойное состояние"; 4) "мысли, сделавшие своим желанием [принесение] пользы живым существам и пребывающие в мирской истине, обретают спокойное состояние"; 5) "мысли, одновременно вращающиеся в шаматхе и випашьяне, обретают спокойное, состояние".
II. Самадхи "Проявление перед глазами просветленного состояния".
III. Дхарани, называемое Неисчерпаемые сокровища:
Девятая ступень.
I. "Добрая мудрость"
II. "Объясняя различия разного рода дхарм, [бодхисаттва] достигает [на этой ступени] самостоятельного существования, отсутствия тяжелых переживаний, беспокойств; возрастают [его] знание и мудрость; [его] самостоятельное существование не имеет препятствий".
Ш. Бодхисаттвы видят, что чакравартин со своей свитой оказывает им "благодеяния [пищей и одеждой], что над их головами белые зонтики, что их тела украшены бесчисленными драгоценностями".
III. "Парамита силы"
"Подобно тому как сокровище полководца – святого царя, вращающего колесо (чакравартина), следует мыслям (намерениям) своего обладателя, так и мысли того [кто следует данной парамите] способны хорошо украсить Чистую Землю будд и принести массе рожденных неисчислимые добродетели"
IV. Самадхи "Сокровищница знания"
V. Дхарани, называемое "Неисчислимые [по количеству] врата".
Десятая ступень.
I. "Закон-облако" (dharmamegha)
II. "Тело Закона подобно пространству, знание и мудрость подобны великому облаку. [Они] способны заполнить и все покрыть".
III. Бодхисаттвы видят: "Тела татхагат излучают золотое сияние, наполняют все вокруг неизмеримо чистым светом". Бесчисленные цари-брахманы оказывают им почтение, совершают в их пользу благодеяния. Татхагаты вращают "чудесное колесо Закона"
IV. "Парамита знания" (jnana-paramita)
"Подобно тому как пространство, а также святой царь, вращающий колесо [Закона], и его мысли могут беспрепятственно распространяться по всем мирам, так и [бодхисаттва, следующий данной парамите] может во всех местах достичь самостоятельного существования – вплоть до обретения места "с окропленной головой".
Пять установок: "наполненное счастьем знание следует по всем без исключения местам"; 5) "с окропленной головой, которые победили, способны постичь все необщие дхармы будд, а также все знания".
V. Самадхи "С храбростью продвигающееся вперед"
VI. "Дхарани", называемое "Разрушающее горы из алмаза".
В процессе прохождения бодхисаттвой десяти ступеней отчетливо выделяются два направления изменения его психического состояния.
Во-первых, трансформируется мироощущение бодхисаттвы. Во-вторых, на каждой "ступени" происходит усиление ощущения бодхисаттвой собственного могущества. Безусловно, ощущение физической неуязвимости, равенства с монархом (и даже превосходства над ним) следует понимать метафорически, т.е. как "знак" определенного психического состояния.
В третьей главе сутры прямо утверждается, что обыкновенные люди "отдалены от трех тел будды" из-за неправильного понимания так называемых "трех знаков" и неспособности очиститься от "трех [типов] мыслей".
"Три знака" – это: 1) "знак привязанности к всеобщим измерениям". Им обозначается ложное с точки зрения философии и психологии махаяны различение "феноменов" и присвоение им "имен" (т.е. их "измерение", оценка); 2) "знак возникновения с опорой на другое" обозначает также ложное представление, что все "феномены" возникают во взаимодействии друг с другом (по закону "зависимого существования"); 3) "знак достижения [истины]" указывает на достижение адекватного взгляда на "феномены", т.е. постижение их иллюзорности и отсутствия различий.
"Три [типа] мыслей" – это: 1) "мысли о возникновении дел" (т.е. "феноменов"); 2) "мысли об опоре на основу": возникновение "дел и вещей" опирается на некоторую основу; 3) "мысли об основе" – основа (и здесь, и в предыдущем случае) – синоним алаявиджняны, универсального "сознания-хранилища" (единственной реальности в виджнянаваде, осмысляемой иногда как Абсолют).
Деятельность его всегда сопровождается четырьмя главными "заблуждениями" и страстями (прежде всего признанием реальности "Я" и себялюбием). Даже осознание алаявиджняны расценивается как умственный акт, вызывающий различные заблуждения. В рассуждениях о "трех телах будды" неоднократно повторяется, что путь к просветлению возможен только посредством подавления "трех типов мыслей" (т.е. функционирования разума), а при перечислении в этой главе кратких характеристик "десяти ступеней" указывается, что на десятой ступени "удаляют мысли об основе" и вступают на ступень татхагаты.
"Ступень татхагаты", т.е. "состояние будды", характеризуется в сутре "тремя [видами] чистоты" – в отношении: 1) заблуждений и страстей, 2) страданий и 3) "знаков" (т.е. различий "феноменов"). И далее подчеркивается, что эти "три вида чистоты", закон "таковости" (татхаты), неразличение внутри "таковости", истинное освобождение, "конечный предел "таковости"" (т.е. сама татхата) едины. "Ступень татхагаты" сравнивается с куском золота, которое "после того, как плавилось, подвергалось ковке и обжигу, не содержит пылинок грязи, поэтому выявляет истинную природу (естество) золота и является чистым. Сущность золота чиста. Таким образом, абсолютное состояние достигшего "ступени татхагаты" уподобляется "царю металлов".
Итак, конечное, целевое состояние психики, предлагаемое составителями сутры бодхисаттве, можно представить как полное подавление рационального восприятия и оценки окружающего мира и себя самого, как "отключение" от реальности и пребывание, говоря словами О. О. Розенберга, в экстазе, которое характеризуется цепочкой видений, и главное из них – сияющее "тело будды". Перед тем как "совершить все деяния", бодхисаттва, говорится в сутре, находится в "сосредоточении без мыслей" ("усиньдин"), а это как раз тот тип медитации, во время которой перестает функционировать разум.
Прохождение бодхисаттвой "десяти ступеней" весьма схоже с процессом "самоактуализации", концепцию которой разрабатывает так называемая "гуманистическая психология" А. Маслоу. Ее автор выделил ряд так называемых "предельных" ценностей (более специальное название – "Б-ценности", "бытийные" ценности, которые выступают как "метапотребности". Реализация последних и есть конечная цель "самоактуализации". Избавление от страданий, страха смерти и достижение некоего блаженного состояния, т.е. обретение нирваны, не могло не быть "Б-ценностями" и соответственно метапотребностью буддиста.
А. Маслоу выделяет восемь путей самоактуализации. Если посмотреть на материал сутры, касающийся десяти ступеней и постижения сокровенных истин, то мы обнаружим поразительное сходство в принципах решения проблемы реализации "метапотребностей".

Не важно, что написано. Важно, как понято.
-
просто Соня

- Сообщения: 10756
- Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:33
- Откуда: Москва
Re: Франкл Десять тезисов о личности
А.Г.Фесюн
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ КУКАЯ
Наиболее яркой фигурой среди деятелей японского буддизма эпохи Хэйан (794-1185) считается Кукай (774-835), более известный по посмертному имени Кобо Дайси ("великий учитель, распространявший закон"). Он был религиозным деятелем, сделавшим попытку объединить все учения в универсальную систему.
По учению Кукая, то, что материально, также и духовно, а что духовно – материально; между ними нет разницы, как между живой и неживой природой. Этим самым Кукай создает основу теории универсальной, единой несмешиваемости, посредством которой устанавливается эзотерический принцип единения человека с Буддой.
"Ваджрашэкхара-тантре" представлено "тело мудрости" (ти-син) Махавайрочаны, символизируемое ваджрой5, которая освещает путь, пробивает панцирь невежества и вообще символизирует динамизм упорядочения. А в "Махавайрочана-сутре" Татхагата Махавайрочана пребывает в "теле принципа" (рисин), символом которого является лотос – нереализованная потенция, созидание и рост.
"Тело мудрости" представлено "алмазной мандалой", "тело принципа" – "мандалой чрева". "То, что осознаёт, есть мудрость; то, что осознаётся, есть принцип. Названия разные, сущностная природа одна". Таким образом, вся Вселенная есть воплощение ноуменального принципа и мудрости Махавайрочаны. "Исходная непроиз-веденность" (хомбусэй, санскр. "адианутпада") есть основная идея истинного эзотеризма, представляемая первой буквой санскритского алфавита ("А").
Поскольку феноменальные манифестации рассматриваются как самопроявления Будды Махавайрочаны, Вселенная соответственно представляется как визуальное (мандала) описание этого изначального Будды. В терминах концепции "четырех видов мандал" Вселенная, во-первых, есть прежде всего маха-мандала, и различные феноменальные существования могут выглядеть как божества, происходящие из "начального тела Махавайрочаны". Во-вторых, Вселенную может отражать самая-мандала, если ее (Вселенную) интерпретировать как манифестацию обетов и мыслей Махавайрочаны. Различные вещи и ритуальные предметы (ваджры, мечи, драгоценности, цветки лотоса, музыкальные инструменты и др.), которые держат в руках будды и бодхисаттвы, символизируют в этом случае их обеты и стремления. В-третьих, Вселенная есть самопроявление Дхармы и каждое феноменальное существо есть буква, знак Дхармы, заключающий в себе неисчислимые значения и добродетели. Таким образом, Вселенная есть дхарма-мандала. И в-четвертых, движения материальных объектов представляют собой деяния будд и бодхисаттв, следовательно, Вселенная есть карма-мандала.
"Четыре вида мандал... неизмеримы числами. Каждая из них подобна Вселенной. Это неотделимо от того, то – от этого; они, как небо и свет, взаимно не смешаны и не замутнены"
По Кукаю, маха-мандала представляет собой гигантскую модель Вселенной, символизирующую Махавайрочану в его целостности. Самая-мандала – то же с точки зрения всеприсущности намерений Махавайрочаны. Дхарма-мандала – сфера, в которой Махавайрочана общается со своими проявлениями, место, где, не прекращаясь, идет передача "сокровенной истины". Карма-мандала – круг действий Махавайрочаны. Четыре мандалы представляют собой: 1) распространенность Махавайрочаны, 2) его намерения, 3) общение, 4) деятельность. Первое – это все шесть элементов, второе – сострадание, третье – откровение в форме "проповеди Дхармакая" четвертое – все движения во Вселенной.
Махавайрочана проявляет себя в форме будд и бодхисаттв, несущих спасение живым существам.
Духовное слияние человека и Будды, телесное, словесное и мысленное соответствие выражено у Кукая термином "кадзи" (привносимое и имеющееся). "ка" относится к "Великому состраданию" Будды, а "дзи" представляет веру человека.
Во введении к комментарию к "Махавайрочана-сутре" он пишет:
" Таким образом, говорю – ([Будда] входит в меня, я вхожу в [Будду]), это и есть смысл слова ["кадзи"]"
Процесс изменения состояния психики подвижника, идущего по пути просветления, Кукай разделяет на три ступени:
1) истинное слияние (ригу). Осознание живым существом своего изначального, полного обладания качествами, присущими как Ваджрадхату (Алмазной), так и Гарбхадхату (Чрева) мандалам, а также телесного обладания присущего его психике просветленного аспекта сознания. Таким образом, само это существо и есть по своей природе Будда Дхармакая;
2) привносимое и имеющееся (кадзи). Подвижник "сливается" с Буддой Махавайрочаной посредством трех таинств, основываясь на "кадзи". На этом уровне подвижник сохраняет свою "идентичность" с Махавайрочаной до тех пор, пока он находится в состоянии самадхи; покидая же его, он возвращается к обычной человеческой жизни, которые он все же воспринимает, но уже совсем по-иному;
3) выявление и обретение (кэнтоку). По мере продолжения практики трех таинств подвижник достигает полного осознания "состояния будды", и все его действия гармонизируются с этим состоянием. Теперь его тело – тело Будды, а тело Будды – его тело7.
В работах Кукая не раз подчеркивался тот факт, что эзотерические элементы можно отыскать во всех экзотерических учениях. В одних учениях таких моментов было меньше, в других – больше.
....
Четвертая ступень: "Сознание, признающее существование лишь ощущаемых, но не Всепребывающего (т.е. Дхармакая). Сознание видит только наличествующие элементы, постоянно же Всепребывающее [их объемлющее] он отрицает". Здесь говорится о том, что вера в существование индивидуальной души отделяет людей друг от друга и препятствует продвижению по пути просветления. Этот уровень соответствует последователям хинаяны, а конкретнее –"шравакам".
Пятая ступень: "Сознание, освободившееся от причинных связей кармы. Постигнув двенадцать форм причинности, сознание искореняет семя невежества. Вследствие этого прекращаются перерождения, , поэтому, даже не молясь, человек получает плод". По Кукаю, это – уровень пратьекабудд в системе хинаяны.
Шестая ступень: "Сознание махаяны [с помощью которого] спасаются окружающие. Когда сострадание возникает без [предварительных] условий, впервые появляется Великое Сострадание. При таком взгляде различия между "ты" и "я" исчезают; признается лишь сознание, отрицается внешний мир". Этот уровень, по Кукаю, соответствует школе Хоссо.
Седьмая ступень: "Сознание, отрицающее [зависимое] происхождение. Посредством восьмикратного отрицания (нет рождения, нет смерти, нет протяженности, нет постоянства, нет единичности, нет множественности, ничто не уходит, ничто не приходит – т.е. восьми "нет" Нагарджуны) исчезает невежество. В процессе сосредоточения мысли на Едином становится очевидной истина абсолютной пустоты. Сознание неподвижно и не заполнено, оно испытывает счастье и покой".
На этом уровне стоит школа Санрон, в основу которой легло учение Нагарджуны. Если феноменальный мир в конечном счете нереален, то пустота реальна. Она может быть непосредственно испытана лишь в процессе медитации, причем с такой определенностью, которой не обладает феноменальный мир. Пустота находится здесь и сейчас, она везде, она всеобъемлюща, и, в сущности, нет никакой разницы между ней и феноменальным миром. Таким образом, все существа являются составными элементами этой пустоты, которая в то же время есть нирвана, и все они являются буддами, если сумеют это осознать.
Восьмая ступень: "Сознание, следующее путем единой истины. Мир Дхармы по природе не загрязнен; в нем знание и объекты сливаются воедино. Тот, кто постиг состояние истинной реальности, обладает единым сознанием". Здесь Кукай подробно описывает цели, категории и методы медитации школы Тэндай, базирующейся на "Лотосовой сутре" и трудах Нагарджуны.
Девятая ступень: "Сознание, не имеющее никаких характеристик. Вода не имеет собственной природы, – встретившись с ветром, она становится волнами. Мир Дхармы не имеет устойчивой формы, при малейшем воздействии он тут же движется и развивается".
Десятая ступень: "Сознание, наполненное таинственным очарованием вселенского будды. Когда лекарство сокровенного учения сметет всю пыль, истинные слова (сингон) откроют сокровищницу. Тогда мгновенно покажутся все драгоценности и осознаются все достоинства". Здесь идет речь о школе Сингон; столь высокое ее положение Кукай объясняет тем, что здесь сознание считается исходно соединенным с сознанием Махавайрочаны, а тело – частью тела Махавайрочаны. Как сказано во вступлении к "Десяти ступеням...", "достичь просветления – значит понять, что собой представляет на самом деле сознание".
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ КУКАЯ
Наиболее яркой фигурой среди деятелей японского буддизма эпохи Хэйан (794-1185) считается Кукай (774-835), более известный по посмертному имени Кобо Дайси ("великий учитель, распространявший закон"). Он был религиозным деятелем, сделавшим попытку объединить все учения в универсальную систему.
По учению Кукая, то, что материально, также и духовно, а что духовно – материально; между ними нет разницы, как между живой и неживой природой. Этим самым Кукай создает основу теории универсальной, единой несмешиваемости, посредством которой устанавливается эзотерический принцип единения человека с Буддой.
"Ваджрашэкхара-тантре" представлено "тело мудрости" (ти-син) Махавайрочаны, символизируемое ваджрой5, которая освещает путь, пробивает панцирь невежества и вообще символизирует динамизм упорядочения. А в "Махавайрочана-сутре" Татхагата Махавайрочана пребывает в "теле принципа" (рисин), символом которого является лотос – нереализованная потенция, созидание и рост.
"Тело мудрости" представлено "алмазной мандалой", "тело принципа" – "мандалой чрева". "То, что осознаёт, есть мудрость; то, что осознаётся, есть принцип. Названия разные, сущностная природа одна". Таким образом, вся Вселенная есть воплощение ноуменального принципа и мудрости Махавайрочаны. "Исходная непроиз-веденность" (хомбусэй, санскр. "адианутпада") есть основная идея истинного эзотеризма, представляемая первой буквой санскритского алфавита ("А").
Поскольку феноменальные манифестации рассматриваются как самопроявления Будды Махавайрочаны, Вселенная соответственно представляется как визуальное (мандала) описание этого изначального Будды. В терминах концепции "четырех видов мандал" Вселенная, во-первых, есть прежде всего маха-мандала, и различные феноменальные существования могут выглядеть как божества, происходящие из "начального тела Махавайрочаны". Во-вторых, Вселенную может отражать самая-мандала, если ее (Вселенную) интерпретировать как манифестацию обетов и мыслей Махавайрочаны. Различные вещи и ритуальные предметы (ваджры, мечи, драгоценности, цветки лотоса, музыкальные инструменты и др.), которые держат в руках будды и бодхисаттвы, символизируют в этом случае их обеты и стремления. В-третьих, Вселенная есть самопроявление Дхармы и каждое феноменальное существо есть буква, знак Дхармы, заключающий в себе неисчислимые значения и добродетели. Таким образом, Вселенная есть дхарма-мандала. И в-четвертых, движения материальных объектов представляют собой деяния будд и бодхисаттв, следовательно, Вселенная есть карма-мандала.
"Четыре вида мандал... неизмеримы числами. Каждая из них подобна Вселенной. Это неотделимо от того, то – от этого; они, как небо и свет, взаимно не смешаны и не замутнены"
По Кукаю, маха-мандала представляет собой гигантскую модель Вселенной, символизирующую Махавайрочану в его целостности. Самая-мандала – то же с точки зрения всеприсущности намерений Махавайрочаны. Дхарма-мандала – сфера, в которой Махавайрочана общается со своими проявлениями, место, где, не прекращаясь, идет передача "сокровенной истины". Карма-мандала – круг действий Махавайрочаны. Четыре мандалы представляют собой: 1) распространенность Махавайрочаны, 2) его намерения, 3) общение, 4) деятельность. Первое – это все шесть элементов, второе – сострадание, третье – откровение в форме "проповеди Дхармакая" четвертое – все движения во Вселенной.
Махавайрочана проявляет себя в форме будд и бодхисаттв, несущих спасение живым существам.
Духовное слияние человека и Будды, телесное, словесное и мысленное соответствие выражено у Кукая термином "кадзи" (привносимое и имеющееся). "ка" относится к "Великому состраданию" Будды, а "дзи" представляет веру человека.
Во введении к комментарию к "Махавайрочана-сутре" он пишет:
" Таким образом, говорю – ([Будда] входит в меня, я вхожу в [Будду]), это и есть смысл слова ["кадзи"]"
Процесс изменения состояния психики подвижника, идущего по пути просветления, Кукай разделяет на три ступени:
1) истинное слияние (ригу). Осознание живым существом своего изначального, полного обладания качествами, присущими как Ваджрадхату (Алмазной), так и Гарбхадхату (Чрева) мандалам, а также телесного обладания присущего его психике просветленного аспекта сознания. Таким образом, само это существо и есть по своей природе Будда Дхармакая;
2) привносимое и имеющееся (кадзи). Подвижник "сливается" с Буддой Махавайрочаной посредством трех таинств, основываясь на "кадзи". На этом уровне подвижник сохраняет свою "идентичность" с Махавайрочаной до тех пор, пока он находится в состоянии самадхи; покидая же его, он возвращается к обычной человеческой жизни, которые он все же воспринимает, но уже совсем по-иному;
3) выявление и обретение (кэнтоку). По мере продолжения практики трех таинств подвижник достигает полного осознания "состояния будды", и все его действия гармонизируются с этим состоянием. Теперь его тело – тело Будды, а тело Будды – его тело7.
В работах Кукая не раз подчеркивался тот факт, что эзотерические элементы можно отыскать во всех экзотерических учениях. В одних учениях таких моментов было меньше, в других – больше.
....
Четвертая ступень: "Сознание, признающее существование лишь ощущаемых, но не Всепребывающего (т.е. Дхармакая). Сознание видит только наличествующие элементы, постоянно же Всепребывающее [их объемлющее] он отрицает". Здесь говорится о том, что вера в существование индивидуальной души отделяет людей друг от друга и препятствует продвижению по пути просветления. Этот уровень соответствует последователям хинаяны, а конкретнее –"шравакам".
Пятая ступень: "Сознание, освободившееся от причинных связей кармы. Постигнув двенадцать форм причинности, сознание искореняет семя невежества. Вследствие этого прекращаются перерождения, , поэтому, даже не молясь, человек получает плод". По Кукаю, это – уровень пратьекабудд в системе хинаяны.
Шестая ступень: "Сознание махаяны [с помощью которого] спасаются окружающие. Когда сострадание возникает без [предварительных] условий, впервые появляется Великое Сострадание. При таком взгляде различия между "ты" и "я" исчезают; признается лишь сознание, отрицается внешний мир". Этот уровень, по Кукаю, соответствует школе Хоссо.
Седьмая ступень: "Сознание, отрицающее [зависимое] происхождение. Посредством восьмикратного отрицания (нет рождения, нет смерти, нет протяженности, нет постоянства, нет единичности, нет множественности, ничто не уходит, ничто не приходит – т.е. восьми "нет" Нагарджуны) исчезает невежество. В процессе сосредоточения мысли на Едином становится очевидной истина абсолютной пустоты. Сознание неподвижно и не заполнено, оно испытывает счастье и покой".
На этом уровне стоит школа Санрон, в основу которой легло учение Нагарджуны. Если феноменальный мир в конечном счете нереален, то пустота реальна. Она может быть непосредственно испытана лишь в процессе медитации, причем с такой определенностью, которой не обладает феноменальный мир. Пустота находится здесь и сейчас, она везде, она всеобъемлюща, и, в сущности, нет никакой разницы между ней и феноменальным миром. Таким образом, все существа являются составными элементами этой пустоты, которая в то же время есть нирвана, и все они являются буддами, если сумеют это осознать.
Восьмая ступень: "Сознание, следующее путем единой истины. Мир Дхармы по природе не загрязнен; в нем знание и объекты сливаются воедино. Тот, кто постиг состояние истинной реальности, обладает единым сознанием". Здесь Кукай подробно описывает цели, категории и методы медитации школы Тэндай, базирующейся на "Лотосовой сутре" и трудах Нагарджуны.
Девятая ступень: "Сознание, не имеющее никаких характеристик. Вода не имеет собственной природы, – встретившись с ветром, она становится волнами. Мир Дхармы не имеет устойчивой формы, при малейшем воздействии он тут же движется и развивается".
Десятая ступень: "Сознание, наполненное таинственным очарованием вселенского будды. Когда лекарство сокровенного учения сметет всю пыль, истинные слова (сингон) откроют сокровищницу. Тогда мгновенно покажутся все драгоценности и осознаются все достоинства". Здесь идет речь о школе Сингон; столь высокое ее положение Кукай объясняет тем, что здесь сознание считается исходно соединенным с сознанием Махавайрочаны, а тело – частью тела Махавайрочаны. Как сказано во вступлении к "Десяти ступеням...", "достичь просветления – значит понять, что собой представляет на самом деле сознание".
Не важно, что написано. Важно, как понято.